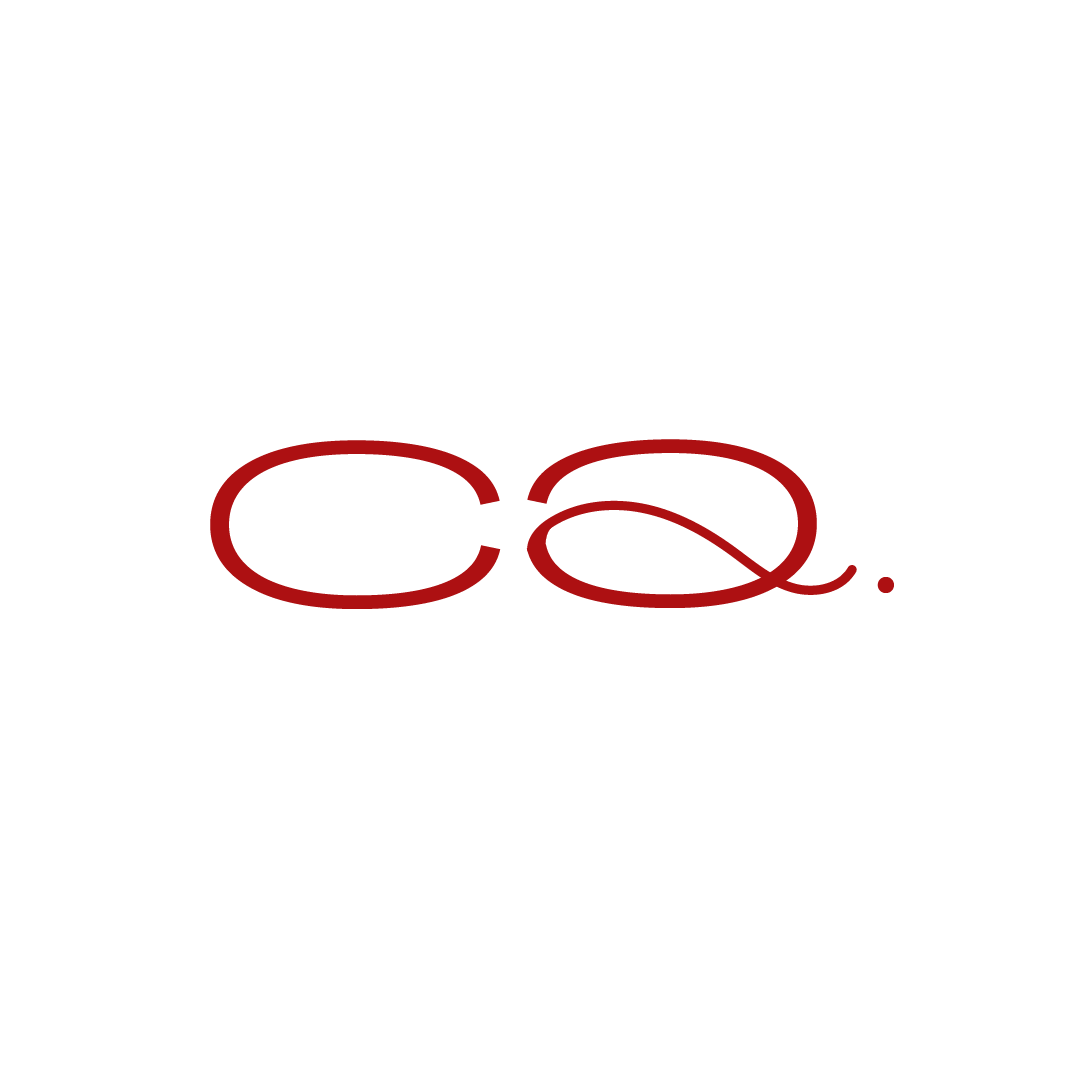ЖАНРОВАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ЛИРИКИ БОРИСА РЫЖЕГО:
ЭЛЕГИЯ/ЭЛЕГИЧЕСКОЕ
ЭЛЕГИЯ/ЭЛЕГИЧЕСКОЕ
Genre Problems of Boris Ryzhy’s Poetry: Elegy/Elegiac
АВТОР:
Полина Захарова
Полина Захарова
НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:
Большухин Леонид Юрьевич
Большухин Леонид Юрьевич
Аннотация
Abstract
Статья посвящена рассмотрению взаимовлияния внутренней меры элегического жанра и поэтики Бориса Рыжего. Определяются ключевые составляющие — ядро — жанра элегии; в этом контексте анализируется реализация основной жанровой доминанты элегического жанра — элегической эмоции лирического субъекта — в лирике Бориса Рыжего. Также в ходе исследования выявляются индивидуально авторские элементы жанра и рассматривается их место в структуре поэтики автора.
The article is devoted to the analysis of mutual influences of elegy’s genre core and Boris Ryzhy’s poetics. The key components of elegy as a genre – its core – are defined; the implementation of its principal genre attribute – the lyrical persona’s elegiac emotion – in Boris Ryzhy’s oeuvre is analyzed in this context. In the course of research author’s individual genre elements are discovered; their place in the structure of the author’s poetics is defined.
Keywords
лирический жанр, элегия, внутренняя мера, элегическая эмоция, жанровая доминанта, элемент жанра
lyrical genre, elegy, genre core, elegiac emotion, principal genre attribute, genre element
Ключевые слова
Границы элегического жанра в конце XX века оказались довольно неустойчивыми. Пользуясь терминами, предложенными В.И. Козловым в диссертационной работе «Русская элегия неканонического периода: типология, история, поэтика», можно утверждать, что элегия как жанр, появившийся в каноническую эпоху русской лирики, был трансформирован в период эпохи неканонической [5]. Элегия утратила канон, но обрела внутреннюю меру – совокупность жанровых признаков, определяющих ядро лирического жанра. Как указывает С.В. Горин в статье «“Внутренняя мера” элегического жанра в новоевропейской литературе», «[термин – П.З.] “внутренняя мера” … по своей функции аналогичен понятию «канон» и соответствует неканоническим жанровым структурам, бурно развивавшимся в европейской литературе с конца XVIII века» [3, С. 141].
В конце XX – начале XXI века в русской поэзии внутренняя мера элегии, по мнению С.Ю. Артёмовой, состояла в следующем: «Канон элегии – осознание несовершенства мира. Эта каноническая установка обусловила ядро жанра – тоску лирического субъекта о невозможном, утраченном или несбывшемся» [1, С. 106]. А.А. Боровская в работе «Жанровые трансформации в русской поэзии первой трети ХХ века» приводит другие составляющие внутренней меры элегии в XX веке: «В качестве жанровых доминант элегии можно назвать элегический хронотоп, основанный на совмещении временных планов …, замкнутость, закрытость, медитативность, переходность элегического состояния, смешанную природу чувств лирического субъекта … Традиционализм жанровой формы элегии выражается в известной формульности (образы “забвенья” и “прекрасного света”, тумана и кладбища, “бледной луны” и “уходящего солнца”, вечера и заката) и устойчивости мотивного комплекса (мотивы одиночества, странничества, изгнания, бренности человеческого существования, воспоминания об ушедших годах), что обусловлено дистанцированностью субъекта от непосредственного переживания» [2, С. 11]. Тем не менее, ключевым элементом внутренней меры жанра элегии, его ядром, является элегическая эмоция (интенция) лирического субъекта – тоска о прошедшем времени, сочетающаяся с разочарованностью в настоящем.
Описанный теоретический инструментарий позволяет рассмотреть произведения Бориса Рыжего в рамках жанра элегии. Ключевым элементом жанра в этом случае становится элегическая эмоция лирического героя, а именно — различные причины элегической эмоции.
При характеристике творчества Бориса Рыжего исследователи часто отмечают обращенность его поэтического сознания в прошлое, более конкретно – в период времени, предшествовавший распаду СССР. Для его лирического героя характерно «ощущение своей эпохи как “эпохи безвременья”» [4, С. 168], «тотальная ностальгия, мифологизация прошлого» [6, С. 176], «ощущение конца эпохи, конца мира, к которому целиком принадлежит сам поэт, мира в силу этого дорогого и прекрасного, но обреченного» [6, С. 175]. Эту мысль поддерживает Н.А. Непомнящих в работе «Мотив воли к смерти в творчестве Бориса Рыжего»: «Его юность пришлась на распад СССР, и многие, пишущие о нём, отмечают, что происходящие перемены он воспринимал как слом эпох» [8, С. 113]. Такая направленность в советское прошлое характерна для стихотворений «Кино», «Там вечером Есенина читали…», «Приобретут всеевропейский лоск…». Кроме советского времени, прошлое, в которое обращен лирический герой, может быть представлено детством (в различных вариациях – школьным («Стань девочкою прежней с белым бантом…», «По локти руки за чертой разлуки…», «Прощание с юностью»), ранним («Пела мама мне когда-то…», «Паровоз», «Мальчишкой в серой кепочке остаться…»), связанным с пионерлагерем («Воспоминание») или реалиями провинциального города («Элегия» («…Нам взяли ноль восьмую алкаши…»)), тесно связанным с дружбой («Из фотоальбома», «Ночь. Каптёрка. Домино…»). Принципиальное значение такой направленность вспять заключается в том, что в некоторых текстах она порождает становящийся характерным для поэтики Рыжего конфликт, связанный со столкновением нескольких временных отрезков – как правило, прошлого и настоящего.
Суть поэтики Бориса Рыжего состоит отчасти в обнаружении конфликта внутри лирического героя: не находя удовлетворения в настоящем, он стремится вернуться в зачастую идеализируемое им прошлое. Определяя элегическую интенцию лирического субъекта как ключевой элемент внутренней меры жанра элегии, мы можем утверждать, что лирика Бориса Рыжего имманентно элегична. Выделение элегичности как одной из характеристик поэтики Бориса Рыжего позволяет найти в текстах, содержащих явно выраженную элегическую интенцию лирического героя, четыре взаимосвязанных причины, порождающие эту эмоцию и определяющие тематическое наполнение текстов: советское прошлое, детство, любовь и дружбу.
В конце XX – начале XXI века в русской поэзии внутренняя мера элегии, по мнению С.Ю. Артёмовой, состояла в следующем: «Канон элегии – осознание несовершенства мира. Эта каноническая установка обусловила ядро жанра – тоску лирического субъекта о невозможном, утраченном или несбывшемся» [1, С. 106]. А.А. Боровская в работе «Жанровые трансформации в русской поэзии первой трети ХХ века» приводит другие составляющие внутренней меры элегии в XX веке: «В качестве жанровых доминант элегии можно назвать элегический хронотоп, основанный на совмещении временных планов …, замкнутость, закрытость, медитативность, переходность элегического состояния, смешанную природу чувств лирического субъекта … Традиционализм жанровой формы элегии выражается в известной формульности (образы “забвенья” и “прекрасного света”, тумана и кладбища, “бледной луны” и “уходящего солнца”, вечера и заката) и устойчивости мотивного комплекса (мотивы одиночества, странничества, изгнания, бренности человеческого существования, воспоминания об ушедших годах), что обусловлено дистанцированностью субъекта от непосредственного переживания» [2, С. 11]. Тем не менее, ключевым элементом внутренней меры жанра элегии, его ядром, является элегическая эмоция (интенция) лирического субъекта – тоска о прошедшем времени, сочетающаяся с разочарованностью в настоящем.
Описанный теоретический инструментарий позволяет рассмотреть произведения Бориса Рыжего в рамках жанра элегии. Ключевым элементом жанра в этом случае становится элегическая эмоция лирического героя, а именно — различные причины элегической эмоции.
При характеристике творчества Бориса Рыжего исследователи часто отмечают обращенность его поэтического сознания в прошлое, более конкретно – в период времени, предшествовавший распаду СССР. Для его лирического героя характерно «ощущение своей эпохи как “эпохи безвременья”» [4, С. 168], «тотальная ностальгия, мифологизация прошлого» [6, С. 176], «ощущение конца эпохи, конца мира, к которому целиком принадлежит сам поэт, мира в силу этого дорогого и прекрасного, но обреченного» [6, С. 175]. Эту мысль поддерживает Н.А. Непомнящих в работе «Мотив воли к смерти в творчестве Бориса Рыжего»: «Его юность пришлась на распад СССР, и многие, пишущие о нём, отмечают, что происходящие перемены он воспринимал как слом эпох» [8, С. 113]. Такая направленность в советское прошлое характерна для стихотворений «Кино», «Там вечером Есенина читали…», «Приобретут всеевропейский лоск…». Кроме советского времени, прошлое, в которое обращен лирический герой, может быть представлено детством (в различных вариациях – школьным («Стань девочкою прежней с белым бантом…», «По локти руки за чертой разлуки…», «Прощание с юностью»), ранним («Пела мама мне когда-то…», «Паровоз», «Мальчишкой в серой кепочке остаться…»), связанным с пионерлагерем («Воспоминание») или реалиями провинциального города («Элегия» («…Нам взяли ноль восьмую алкаши…»)), тесно связанным с дружбой («Из фотоальбома», «Ночь. Каптёрка. Домино…»). Принципиальное значение такой направленность вспять заключается в том, что в некоторых текстах она порождает становящийся характерным для поэтики Рыжего конфликт, связанный со столкновением нескольких временных отрезков – как правило, прошлого и настоящего.
Суть поэтики Бориса Рыжего состоит отчасти в обнаружении конфликта внутри лирического героя: не находя удовлетворения в настоящем, он стремится вернуться в зачастую идеализируемое им прошлое. Определяя элегическую интенцию лирического субъекта как ключевой элемент внутренней меры жанра элегии, мы можем утверждать, что лирика Бориса Рыжего имманентно элегична. Выделение элегичности как одной из характеристик поэтики Бориса Рыжего позволяет найти в текстах, содержащих явно выраженную элегическую интенцию лирического героя, четыре взаимосвязанных причины, порождающие эту эмоцию и определяющие тематическое наполнение текстов: советское прошлое, детство, любовь и дружбу.
СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ
Элегичность обращения к советскому прошлому в текстах Рыжего, как было неоднократно отмечено, обусловлена биографически. «Последний советский поэт» [6, С. 176], как охарактеризовал Бориса Рыжего А.Г. Машевский, видел в советском детстве и юношестве пример спокойствия и определенности, вступающими в борьбу с «безвременьем» [4, С. 168] настоящего.
Элегическая эмоция лирического героя обращена не к советскому времени вообще, а к конкретной его части – восьмидесятым годам. Этот временной маркер появляется в нескольких текстах Рыжего. В стихотворении «Кино» лирический герой дает характеристику этого времени. Его приметами становятся «кинотеатр “Заря”», «комсомолочка», «чугун», «танки», «джинсы их Америки» [10, С. 133]. В стихотворении «Там вечером Есенина читали…» маркерами эпохи, помимо конкретного указания («Восьмидесятый год. СССР»), становятся «портвейн», «домино», «участковый милиционер» и «школа» [10, С. 178]. В обоих текстах советское прошлое идеализируется и представляется как безвозвратно ушедшее. В «Кино» на это указывает композиционное соотношение первой и последней строф: наполненный приятными воспоминаниями в начале текста, в последней строфе лирический герой теряет эти чувства, приходя к осознанию недолговечности и безвозвратной утерянности описываемого им прошлого – «Но все равно, кино кончается, / и все кончается на свете: / толпа уходит, и валяется / Сын человеческий в буфете» [10, С. 133]. В «Там вечером Есенина читали…» идеализируемый за счет различных художественных деталей хронотоп прошлого («…участковый милиционер … снимал фуражку и садился рядом / и пил вино, поскольку не был гадом», «…свет и воздух. Вечер. Лето», «…Монета / в руке моей, во взоре – облака» [178]) в этих же деталях противопоставляется настоящему – «Семнадцать лет прошло, и я вернулся – / ни света и ни воздуха», «…Где же вы, ребята, / теперь?..» [10, С. 178]; вновь возникающая за счёт образной и эмоциональной соотнесённости первой и последней строф кольцевая композиция усиливает контраст: утерянные во времени «свет и воздух», «ребята», Есенин, вино и домино продолжают существовать в сознании лирического героя, порождая конфликт его мыслей с реальностью – «В моей душе еще живет Есенин, / СССР, разруха, домино» [10, С. 178].
Указание конкретного временного периода – не единственная форма обращения лирического героя к советскому прошлому. В качестве объектов элегической эмоции могут представать отдельные маркеры эпохи. В тексте «Лейся, песня, – теперь все равно…» указателями на советское прошлое являются кинотеатр и «кино про пиратов двадцатого века» [10, С. 250], экскаватор и пионеры. В этом произведении хронотоп СССР идеализируется через тему всеобщего объединения и силы переживаемых лирическим героем эмоций: «мы семь раз наблюдали кино / про пиратов двадцатого века», «Единение с веком, с людьми, / миром, городом, с местной шпаною», «Мы все вместе, поскольку гроза. / Только вспомню – сирень расцветает – / проступает такая слеза, / и душа – закипает», «Жили-были, ходили в кино, / наконец, пионерами были» [10, С. 250]. Настоящее резко контрастирует с прошлым: «Зазевались, да – эх! – на говно / белоснежной туфлей наступили» [10, С. 250].
Элегическая эмоция лирического героя обращена не к советскому времени вообще, а к конкретной его части – восьмидесятым годам. Этот временной маркер появляется в нескольких текстах Рыжего. В стихотворении «Кино» лирический герой дает характеристику этого времени. Его приметами становятся «кинотеатр “Заря”», «комсомолочка», «чугун», «танки», «джинсы их Америки» [10, С. 133]. В стихотворении «Там вечером Есенина читали…» маркерами эпохи, помимо конкретного указания («Восьмидесятый год. СССР»), становятся «портвейн», «домино», «участковый милиционер» и «школа» [10, С. 178]. В обоих текстах советское прошлое идеализируется и представляется как безвозвратно ушедшее. В «Кино» на это указывает композиционное соотношение первой и последней строф: наполненный приятными воспоминаниями в начале текста, в последней строфе лирический герой теряет эти чувства, приходя к осознанию недолговечности и безвозвратной утерянности описываемого им прошлого – «Но все равно, кино кончается, / и все кончается на свете: / толпа уходит, и валяется / Сын человеческий в буфете» [10, С. 133]. В «Там вечером Есенина читали…» идеализируемый за счет различных художественных деталей хронотоп прошлого («…участковый милиционер … снимал фуражку и садился рядом / и пил вино, поскольку не был гадом», «…свет и воздух. Вечер. Лето», «…Монета / в руке моей, во взоре – облака» [178]) в этих же деталях противопоставляется настоящему – «Семнадцать лет прошло, и я вернулся – / ни света и ни воздуха», «…Где же вы, ребята, / теперь?..» [10, С. 178]; вновь возникающая за счёт образной и эмоциональной соотнесённости первой и последней строф кольцевая композиция усиливает контраст: утерянные во времени «свет и воздух», «ребята», Есенин, вино и домино продолжают существовать в сознании лирического героя, порождая конфликт его мыслей с реальностью – «В моей душе еще живет Есенин, / СССР, разруха, домино» [10, С. 178].
Указание конкретного временного периода – не единственная форма обращения лирического героя к советскому прошлому. В качестве объектов элегической эмоции могут представать отдельные маркеры эпохи. В тексте «Лейся, песня, – теперь все равно…» указателями на советское прошлое являются кинотеатр и «кино про пиратов двадцатого века» [10, С. 250], экскаватор и пионеры. В этом произведении хронотоп СССР идеализируется через тему всеобщего объединения и силы переживаемых лирическим героем эмоций: «мы семь раз наблюдали кино / про пиратов двадцатого века», «Единение с веком, с людьми, / миром, городом, с местной шпаною», «Мы все вместе, поскольку гроза. / Только вспомню – сирень расцветает – / проступает такая слеза, / и душа – закипает», «Жили-были, ходили в кино, / наконец, пионерами были» [10, С. 250]. Настоящее резко контрастирует с прошлым: «Зазевались, да – эх! – на говно / белоснежной туфлей наступили» [10, С. 250].
Детство
СССР как причина элегической интенции лирического героя тесно связан с другой причиной этого явления – детством. Одним из характерных локусов, связанных с хронотопом СССР и являющийся объектом элегической эмоции, становится пионерский лагерь.
Этот локус содержит «Матершинное стихотворение». Внимание автора в тексте сконцентрировано на демонстрации контраста между временем пионерского детства и настоящим. Строфа, содержащая локус пионерлагеря, создает образ прошлого как времени, в котором сосредоточены лучшие стремления лирического героя: он влюблён и полон надежд на светлое будущее – «Нам никогда не будет шестьдесят, / а лишь четыре раза по пятнадцать!» [10, С. 179]. Разочарование в настоящем порождает крушение детских надежд: пионер, стремившийся прожить жизнь ярко и полно, становится «небритым и худым», «с порезанной губой», «издерганным», его снедает «дикая тоска» [10, С. 179]. Несмотря на разочарование в настоящем, воспоминание о лучшем прошлом пробуждает в лирическом герое надежду: «Издерганный, но все-таки прекрасный, / надменный и веселый Б.Б.Р., / безвкусицей что счел бы, например, / порезать вены бритвой безопасной» [10, С. 179].
Важным объектом в обращении к детству является школа и школьное время. Как правило, тексты, в которых автор обращается к школьному возрасту лирического героя, также связаны с темой детской или юношеской любви. Таков, например, текст «Элегия Эле». Это произведение содержит ярко выраженное противопоставление разных временных отрезков: школьной поры и настоящей жизни лирического героя. Школьное детство также помещено в контекст советского прошлого: «комсомольские бурлили массы, / в гаражах курили пионеры» [9, С. 68]. Возлюбленная представляется лирическому герою идеалом: «ты была на ангела похожа», «в белой блузке, с личиком ребенка», «милый ангел, что в тебе земного» [9, С. 68]. Сознательное идеализирование девушки позволяет автору создать яркий контраст между прошлым, содержащим идеал, и настоящим, в котором идеал утрачен: «По стене сползти на пол бетонный, / чтоб он вбил навеки в сей затылок / память, ударяя монотонно», «Эля! – восклицаю я. – О Боже! / В потолок смотрю и плачу, Эля» [9, С. 68]. Причиной обращения к прошлому становится утрата возлюбленной, которую лирическому герою сложно пережить.
В центре внимания лирического героя, обращающегося к детству, находятся его окружение (друзья и знакомые) и пространство, в котором проходило школьное время. В этой ситуации показательна «Элегия» («…Нам взяли ноль восьмую алкаши…»). Традиционный для элегии хронотоп прошлого в тексте представлен реалиями провинциального города: «Гудрон и мел, цемент и провода. / Трава и жесть, окурки и опилки» [10, С. 154]. Не свойственная жанровому канону идеализация бытового пространства порождает контраст между ожиданием, продиктованным жанровой номинацией текста, и действительной картиной прошлого. Этот контраст усиливается появляющимся образом одного из местных жителей: «Огромный ангел, крылья волоча / по щебню, в старушачьих ботах. / В одной его руке была праща, / в другой кастет блатной работы» [10, С. 154]. Переосмысление образа ангела позволяет раскрыть элегическую эмоцию лирического героя: обращаясь к лучшему времени – школьному детству, – он идеализирует его, находя в нём проявления субъективно лучшей жизни. Ярко описанное прошлое резко противопоставляется однообразному и непримечательному настоящему: «…Такой рассказ. Чего добавить тут? / Вот я пришел домой перед рассветом. / Вот я закончил Горный институт» [10, С. 154].
Среди текстов, содержащих элегическое обращение к детству, есть относящиеся к абстрактной категории детства и лишённые образной конкретики. Таково произведение «Прощание с юностью». Яркость детских и юношеских переживаний и надежд противопоставляется холодности и серости настоящего: «но, юность, ты растаяла со снегом / и оказалось, мир до боли прост, / но что-то навсегда во мне сломалось, / осталось что-то, пуст пустырь, погост» [10, С. 77]. Острота детских впечатлений выражается метафорически – через уподобление их художественным приемам: «как выбирал я ритмы, как сорил / метафорами» [10, С. 77]. Этой живости прошлого противопоставляется сдержанность настоящего: «теперь я сух и сухо созерцаю / разрозненные части бытия» [10, С. 77]. Элегическая эмоция здесь происходит из экзистенциального разочарования в настоящей жизни лирического героя.
Этот локус содержит «Матершинное стихотворение». Внимание автора в тексте сконцентрировано на демонстрации контраста между временем пионерского детства и настоящим. Строфа, содержащая локус пионерлагеря, создает образ прошлого как времени, в котором сосредоточены лучшие стремления лирического героя: он влюблён и полон надежд на светлое будущее – «Нам никогда не будет шестьдесят, / а лишь четыре раза по пятнадцать!» [10, С. 179]. Разочарование в настоящем порождает крушение детских надежд: пионер, стремившийся прожить жизнь ярко и полно, становится «небритым и худым», «с порезанной губой», «издерганным», его снедает «дикая тоска» [10, С. 179]. Несмотря на разочарование в настоящем, воспоминание о лучшем прошлом пробуждает в лирическом герое надежду: «Издерганный, но все-таки прекрасный, / надменный и веселый Б.Б.Р., / безвкусицей что счел бы, например, / порезать вены бритвой безопасной» [10, С. 179].
Важным объектом в обращении к детству является школа и школьное время. Как правило, тексты, в которых автор обращается к школьному возрасту лирического героя, также связаны с темой детской или юношеской любви. Таков, например, текст «Элегия Эле». Это произведение содержит ярко выраженное противопоставление разных временных отрезков: школьной поры и настоящей жизни лирического героя. Школьное детство также помещено в контекст советского прошлого: «комсомольские бурлили массы, / в гаражах курили пионеры» [9, С. 68]. Возлюбленная представляется лирическому герою идеалом: «ты была на ангела похожа», «в белой блузке, с личиком ребенка», «милый ангел, что в тебе земного» [9, С. 68]. Сознательное идеализирование девушки позволяет автору создать яркий контраст между прошлым, содержащим идеал, и настоящим, в котором идеал утрачен: «По стене сползти на пол бетонный, / чтоб он вбил навеки в сей затылок / память, ударяя монотонно», «Эля! – восклицаю я. – О Боже! / В потолок смотрю и плачу, Эля» [9, С. 68]. Причиной обращения к прошлому становится утрата возлюбленной, которую лирическому герою сложно пережить.
В центре внимания лирического героя, обращающегося к детству, находятся его окружение (друзья и знакомые) и пространство, в котором проходило школьное время. В этой ситуации показательна «Элегия» («…Нам взяли ноль восьмую алкаши…»). Традиционный для элегии хронотоп прошлого в тексте представлен реалиями провинциального города: «Гудрон и мел, цемент и провода. / Трава и жесть, окурки и опилки» [10, С. 154]. Не свойственная жанровому канону идеализация бытового пространства порождает контраст между ожиданием, продиктованным жанровой номинацией текста, и действительной картиной прошлого. Этот контраст усиливается появляющимся образом одного из местных жителей: «Огромный ангел, крылья волоча / по щебню, в старушачьих ботах. / В одной его руке была праща, / в другой кастет блатной работы» [10, С. 154]. Переосмысление образа ангела позволяет раскрыть элегическую эмоцию лирического героя: обращаясь к лучшему времени – школьному детству, – он идеализирует его, находя в нём проявления субъективно лучшей жизни. Ярко описанное прошлое резко противопоставляется однообразному и непримечательному настоящему: «…Такой рассказ. Чего добавить тут? / Вот я пришел домой перед рассветом. / Вот я закончил Горный институт» [10, С. 154].
Среди текстов, содержащих элегическое обращение к детству, есть относящиеся к абстрактной категории детства и лишённые образной конкретики. Таково произведение «Прощание с юностью». Яркость детских и юношеских переживаний и надежд противопоставляется холодности и серости настоящего: «но, юность, ты растаяла со снегом / и оказалось, мир до боли прост, / но что-то навсегда во мне сломалось, / осталось что-то, пуст пустырь, погост» [10, С. 77]. Острота детских впечатлений выражается метафорически – через уподобление их художественным приемам: «как выбирал я ритмы, как сорил / метафорами» [10, С. 77]. Этой живости прошлого противопоставляется сдержанность настоящего: «теперь я сух и сухо созерцаю / разрозненные части бытия» [10, С. 77]. Элегическая эмоция здесь происходит из экзистенциального разочарования в настоящей жизни лирического героя.
Любовь
Третья причина возникновения у лирического героя элегической эмоции – любовь. Произведения, представляющие собой элегическое обращение к прошедшей любви, содержат различные эмоции лирического героя.
Текстом, относящимся к этой категории, можно считать «Мы целовались тут пять лет назад…». Прошлое, содержащие утраченную любовь, здесь отстоит от настоящего на определённый временной промежуток – пять лет. Прошлое идеализируется лирическим героем: «я пьяный был, я нес изящный бред» [10, С. 281], «На фоне безупречного заката / шатался…» [10, С. 281]. Трагичность утраты любви подчёркивается осознанием невозможности возвращения в прошлое, на что указывает переосмысление лирическим героев поговорки: «Но верю, на горе засвищет рак, / и заново былое повторится» [10, С. 281]. Без возвращения в прошлое жизнь лирического героя теряет смысл: «Я выпью и на пять минут прилягу, / потом проснусь: ан жизнь моя прошла» [10, С. 281]. Невозможность возвращения в прошлое здесь компенсируется повторным многократным переживанием ситуаций и эмоций, связанных с лучшим временем, что и составляет жизнь лирического героя.
Мотив принятия невозможности возвращения лучшего времени звучит в тексте «Помнишь дождь на улице Титова…». Утрата любовного идеала переживается лирическим героем спокойно: он осознаёт этот жизненный эпизод как часть собственного пути, на что указывает появляющийся в пятой строфе мотив дороги / пути: «…отчалю навсегда/ без музыки, но по той дороге, / по которой мы пришли сюда» [10, С. 340]. Движение по дороге является возвращением к состоянию, предшествовавшему любовным отношениям лирического героя. Принятие утраты любви выражается в последней строфе: «…надо тоже не забыть / поблагодарить за все, что было, / потому что не за что простить» [10, С. 340].
Сохранение памяти о прошедшем как способ переживания утраты любви встречается в тексте «А грустно было и уныло…». Лирический герой переживает утрату любви, пересоздавая в памяти образы себя и возлюбленной: «Была и девочка с картинки / с завитой челкой. / И я был богом и боксером, / а не поэтом. / То было правдою, а вздором / как раз вот это» [10, С. 361]. Ситуация, вспоминаемая лирическим героем, переживается им в памяти многократно: «звучи заезженной пластинкой», «И поцелуй в промозглом парке … он вечно длится» [10, С. 361]. Намеренная трансформация обстоятельств ситуации и образов влюблённых может быть понята как объективация воспоминаний, вызывающих активное переживание лирического героя, которая, в свою очередь, становится способом преодоления тяжести утраты любви.
Текстом, относящимся к этой категории, можно считать «Мы целовались тут пять лет назад…». Прошлое, содержащие утраченную любовь, здесь отстоит от настоящего на определённый временной промежуток – пять лет. Прошлое идеализируется лирическим героем: «я пьяный был, я нес изящный бред» [10, С. 281], «На фоне безупречного заката / шатался…» [10, С. 281]. Трагичность утраты любви подчёркивается осознанием невозможности возвращения в прошлое, на что указывает переосмысление лирическим героев поговорки: «Но верю, на горе засвищет рак, / и заново былое повторится» [10, С. 281]. Без возвращения в прошлое жизнь лирического героя теряет смысл: «Я выпью и на пять минут прилягу, / потом проснусь: ан жизнь моя прошла» [10, С. 281]. Невозможность возвращения в прошлое здесь компенсируется повторным многократным переживанием ситуаций и эмоций, связанных с лучшим временем, что и составляет жизнь лирического героя.
Мотив принятия невозможности возвращения лучшего времени звучит в тексте «Помнишь дождь на улице Титова…». Утрата любовного идеала переживается лирическим героем спокойно: он осознаёт этот жизненный эпизод как часть собственного пути, на что указывает появляющийся в пятой строфе мотив дороги / пути: «…отчалю навсегда/ без музыки, но по той дороге, / по которой мы пришли сюда» [10, С. 340]. Движение по дороге является возвращением к состоянию, предшествовавшему любовным отношениям лирического героя. Принятие утраты любви выражается в последней строфе: «…надо тоже не забыть / поблагодарить за все, что было, / потому что не за что простить» [10, С. 340].
Сохранение памяти о прошедшем как способ переживания утраты любви встречается в тексте «А грустно было и уныло…». Лирический герой переживает утрату любви, пересоздавая в памяти образы себя и возлюбленной: «Была и девочка с картинки / с завитой челкой. / И я был богом и боксером, / а не поэтом. / То было правдою, а вздором / как раз вот это» [10, С. 361]. Ситуация, вспоминаемая лирическим героем, переживается им в памяти многократно: «звучи заезженной пластинкой», «И поцелуй в промозглом парке … он вечно длится» [10, С. 361]. Намеренная трансформация обстоятельств ситуации и образов влюблённых может быть понята как объективация воспоминаний, вызывающих активное переживание лирического героя, которая, в свою очередь, становится способом преодоления тяжести утраты любви.
Дружба
Дружба и воспоминания о друзьях – ещё одна причина возникновения у лирического героя Бориса Рыжего элегической эмоции. Образы друзей в элегической поэзии Рыжего персонализированы: они наделены именами, нередко биографиями и характерами. Элегическое обращение к друзьям и дружбе связано с двумя различными темами: темой поэзии и поэтической традиции и темой смерти.
В произведениях, обращённых к друзьям-поэтам, Борис Рыжий уделяет большое внимание русской поэтической традиции. В тексте «До утра читали Блока…» лирический герой обращается к воспоминаниям о собственной юности. Другом лирического героя является «Дозморов Олег» [10, С. 20] – «филолог, развратник, Дельвиг, / с виду умница, бездельник» [10, С. 20]. Соотнесение образа Олега Дозморова с образом А.А. Дельвига – близкого друга А.С. Пушкина – указывает на внимание как лирического героя, так и его друга к русской поэтической традиции и их сознательное включение себя в ряд значительных русский поэтов: «Перед смертью вспомню это, / как стояли два поэта» [10, С. 20]. Эта мысль поддерживается и обращением к творчеству А.С. Блока, произведения которого лирический герой и его друг читали «до утра» [10, С. 20]. В этом тексте автор переосмысляет традиционное для элегии построение конфликта: контрастируют не лучшее прошлое и худшее настоящее, а лучшее прошлое и возможное будущее, содержащее в себе смерть: «Перед смертью вспомню это» [10, С. 20]. Элегическая интенция лирического героя является отложенной до его смерти в будущем.
Нередко элегическое обращение к прошедшей дружбе связано со смертью друзей. В тексте «Из фотоальбома» причиной воспоминаний о друге, которого зовут Григорий Данской, становится фотография, сделанная в 1998 году. Описание развлечений друзей – езда на тракторе после «пятой бутылки» [10, С. 226] – достигает кульминации в 6 строфе: «Как будто кончено сраженье, / и мы, прожженные, летим, / прорвавшись через окруженье / к своим» [10, С. 226], после чего резко сменяется обрывочным, фактологическим описанием смерти друга: «Авария. Башка разбита» [10, С. 226]. Способом переживания трагедии и средством возвращения в прошлое является фотография: «Но фотографию найду» [10, С. 226]. Именно воспоминание о прошлом дает надежду на устроение будущего: «и повторяю, как молитву, / такую вот белиберду: / Душа моя, огнем и дымом, / путем небесно-голубым, / любимая, лети к любимым / своим» [10, С. 226].
С темами смерти и дружбы в творчестве Рыжего связан жанр кладбищенской элегии. Представителем этого жанра является произведение «Ночь. Каптерка. Домино…». Память лирического героя обращается к эпизоду празднования дня рождения его друга Кости. Этот день запоминается лирическому герою ярким: «И бегу, забыв весь свет, / на меня одна надежда» [10, С. 140]. Этот же день становится трагичным и для лирического героя, и для его друга: «Что такое? Боже мой! / Два мента торчат у “скорой”. / Это шкафчик, о который / били Костю головой?» [10, С. 140]. Воспоминание о трагедии связано у лирического героя с могилой друга: «Зимний вечер. После дня / трудового над могилой, / впечатляюще унылой, / почему-то плачу я: / ну, прощай, Салимов К.У. / Снег ложится на башку» [10, С. 140]. Последняя строфа показывает переход лирического героя из воспоминания в настоящий мир и его переживания, связанные с этим.
В произведениях, обращённых к друзьям-поэтам, Борис Рыжий уделяет большое внимание русской поэтической традиции. В тексте «До утра читали Блока…» лирический герой обращается к воспоминаниям о собственной юности. Другом лирического героя является «Дозморов Олег» [10, С. 20] – «филолог, развратник, Дельвиг, / с виду умница, бездельник» [10, С. 20]. Соотнесение образа Олега Дозморова с образом А.А. Дельвига – близкого друга А.С. Пушкина – указывает на внимание как лирического героя, так и его друга к русской поэтической традиции и их сознательное включение себя в ряд значительных русский поэтов: «Перед смертью вспомню это, / как стояли два поэта» [10, С. 20]. Эта мысль поддерживается и обращением к творчеству А.С. Блока, произведения которого лирический герой и его друг читали «до утра» [10, С. 20]. В этом тексте автор переосмысляет традиционное для элегии построение конфликта: контрастируют не лучшее прошлое и худшее настоящее, а лучшее прошлое и возможное будущее, содержащее в себе смерть: «Перед смертью вспомню это» [10, С. 20]. Элегическая интенция лирического героя является отложенной до его смерти в будущем.
Нередко элегическое обращение к прошедшей дружбе связано со смертью друзей. В тексте «Из фотоальбома» причиной воспоминаний о друге, которого зовут Григорий Данской, становится фотография, сделанная в 1998 году. Описание развлечений друзей – езда на тракторе после «пятой бутылки» [10, С. 226] – достигает кульминации в 6 строфе: «Как будто кончено сраженье, / и мы, прожженные, летим, / прорвавшись через окруженье / к своим» [10, С. 226], после чего резко сменяется обрывочным, фактологическим описанием смерти друга: «Авария. Башка разбита» [10, С. 226]. Способом переживания трагедии и средством возвращения в прошлое является фотография: «Но фотографию найду» [10, С. 226]. Именно воспоминание о прошлом дает надежду на устроение будущего: «и повторяю, как молитву, / такую вот белиберду: / Душа моя, огнем и дымом, / путем небесно-голубым, / любимая, лети к любимым / своим» [10, С. 226].
С темами смерти и дружбы в творчестве Рыжего связан жанр кладбищенской элегии. Представителем этого жанра является произведение «Ночь. Каптерка. Домино…». Память лирического героя обращается к эпизоду празднования дня рождения его друга Кости. Этот день запоминается лирическому герою ярким: «И бегу, забыв весь свет, / на меня одна надежда» [10, С. 140]. Этот же день становится трагичным и для лирического героя, и для его друга: «Что такое? Боже мой! / Два мента торчат у “скорой”. / Это шкафчик, о который / били Костю головой?» [10, С. 140]. Воспоминание о трагедии связано у лирического героя с могилой друга: «Зимний вечер. После дня / трудового над могилой, / впечатляюще унылой, / почему-то плачу я: / ну, прощай, Салимов К.У. / Снег ложится на башку» [10, С. 140]. Последняя строфа показывает переход лирического героя из воспоминания в настоящий мир и его переживания, связанные с этим.
Индивидуальные жанровые доминанты элегии в поэтике Бориса Рыжего
Элегическая эмоции как ядро жанра элегии, приобретая в лирике Бориса Рыжего индивидуально авторское выражение, порождает жанровые доминанты, характерные только для поэтики этого автора.
Одной из таких доминант является мотив кино. В некоторых текстах («Кино», «Лейся, песня, – теперь все равно…») кино выступает отчасти как маркер времени, становясь в памяти героя характерной чертой восьмидесятых. В то же время кино в этих случаях является способом взаимодействия лирического героя с собственной памятью. В стихотворении «Кино» кино – метафора для восьмидесятых как биографического периода в жизни лирического героя; в «Лейся, песня, – теперь все равно…» кино выступает не только как форма объективизации памяти и ее художественного осмысления, но и как явление, проводящее границу между настоящим и прошлым.
Кино приобретает значение атрибута прошлого, становясь частью его хронотопа – так происходит в текстах «Не забывай, не забывай…», где кинотеатр упоминается в ряду других объектов времени и ситуации: «Не забывай, не забывай / игру в очко на задней парте. / Последний ряд кинотеатра. / Ночной светящийся трамвай» [10, С. 308]. В тексте «На мотив Луговского» кино также включается в один ряд с реалиями прошлой жизни: «Надо, чтобы нас накрыла снова, / унесла зеленая волна / в море жизни, океан былого, / старых фильмов, музыки и сна» [10, С. 311].
Кино как процесс прокручивания киноплёнки, становясь формой взаимодействия лирического героя с собственной памятью, в некоторых текстах отрывается от своего непосредственного наполнения и предстаёт как процесс перематывания воспоминаний. Так, в тексте «Отмотай-ка жизнь мою назад…» процесс отматывания плёнки становится формой воспоминания, а эпизоды из памяти представляются как кадры фильма: «вот иду я пьяный через сад, / осень, листопад. / Вот иду я: девушка с веслом / слева, а с ядром – / справа, время встало и стоит, / а листва летит» [10, С. 343].
Частым выбором элегического локуса в текстах Бориса Рыжего становится провинциальный город. Локус города связан со всеми тематическими ветвлениями элегического жанра в творчестве Рыжего, он является локусом для настоящих действий лирического героя и его воспоминаний о прошлом.
В некоторых текстах локус города может выступать самостоятельной причиной элегической эмоции лирического героя. В «На мотив Луговского» пространство Свердловска провоцирует воспоминания лирического героя, связанные с конкретными городскими локациями: «Всякий раз, гуляя по Свердловску, / я в один сворачиваю сквер, / там стоят торговые киоски / и висит тряпье из КНР. / За горою джинсового хлама / вижу я знакомые глаза» [10, С. 311].
В элегиях, обращенных к СССР, детству, любви и дружбе встречаются отдельные маркеры городского пространства: парки, аллеи, скверы, трамваи, улицы. Часто они являются выразителями жанровых черт элегии: элементы городского пространства изображаются осенью, становясь из локуса элегическим хронотопом. Они аккумулируют воспоминания лирического героя, связывая его прошлое и настоящее – например, именно такую роль играет аллея в тексте «Фонарь над кустами»: «И собирайся поскорее / туда, на темную аллею – / ходьбы туда всего лишь час – / быть с теми, кто за нас рыдает, / кто понимает, помнит, знает, / ждет. И волнуется за нас» [10, С. 47].
Последняя жанровая доминанта элегии в поэтике Бориса Рыжего – мотив музыки. Музыка выполняет функцию, схожую с ролью локуса города – она является средством сохранения воспоминаний и связи прошлого и настоящего. Такова ее роль в тексте «Отмотай-ка жизнь мою назад…». Песня, доносящая из репродуктора и поющая, «что любовь пройдет и жизнь пройдет, / пролетят года» [10, С. 343], помещается в пространство прошлого и становится запоминающейся для лирического героя деталью. Она, вместе с городскими пейзажами, провоцирует воспоминания лирического героя: «Что любовь пройдет, и жизнь пройдет, / вяло подпою» [10, С. 343]. В «Элегии» («Благодарю за каждую дождинку…») понятие музыки становится неотделимо от представления о прошлом: «Неотразимой музыкой былого / постукивать по пишущей машинке» [10, С. 330]. Музыка пронизывает прошлую жизнь лирического героя, переходя в настоящее: «… я начну / стучать по черным клавишам в надежде, / что вот чуть-чуть, и будет всё как прежде, / что, черт возьми, я прошлое верну» [10, С. 330].
Другая роль музыки в элегическом пространстве текстов Рыжего – созидательная. В стихотворении «Трубач и осень» игра трубача создаёт в сознании лирического героя и его возлюбленной город, который является выражением их чувств: «Я сказал: посмотри, как он низко берет, / и из музыки город встает. / Арки, лестницы, лица, дома и мосты – / неужели не чувствуешь ты? / Ты сказала: я чувствую город внутри» [10, С. 46]. Город существует, пока звучит музыка: «Ты сказала: как только он кончит играть, / все исчезнет, исчезнет опять» [10, С. 46]. Музыка является конституирующим фактором чувств лирического героя и возлюбленной: «Но настало туманное утро, и вдруг / все бесформенным стало вокруг / … Это таял наш город и тек по рукам – / навсегда, навсегда – по щекам» [10, С. 46]. Исчезновение музыки и последующее разрушение отношений порождает элегическую эмоцию лирического героя и его желание исправить прошедшее: «О, скажи мне, зачем я его не держал, / не просил, чтоб он дальше играл?» [10, С. 46].
Последняя из выделенных нами функций мотива музыки связана с темой художественной реализации творца. Эта тема играла одну из центральных ролей в поэтическом мире Бориса Рыжего. Реализация творцом своего потенциала и его признание в контексте мотива музыки связаны с образом Баха. Он появляется в двух текстах Рыжего. Первый из них – «Кусок элегии». Здесь тема творческой реализации художника (в широком смысле слова) звучит в двух последних стихах: «И музыку включи, пусть шпарит Бах – / он умер, но мелодия осталась» [10, С. 174]. Признание приходит к творцу после его смерти – именно эта мысль облегчает переживания лирического героя, из удручающего настоящего, в котором он приближается к смерти, обращающемуся к прошлому. В тексте «Серж эмигрировать мечтал…» образ Баха появляется в момент экзистенциального и творческого отчаяния лирического героя: «Едва живу, едва дышу, / что сочиню – не запишу, / на целый день включаю Баха, / … и перед смертью нету страха» [10, С. 164]. Тема признания творца после смерти здесь звучит косвенно, но образ Баха сохраняет значение творческого примера и символизм творческого пути и заслуженной поэтической славы.
Итак, внутреннее наполнение произведений Бориса Рыжего, относящихся к жанру элегии, обусловлено четырьмя различными причинами элегической эмоции лирического героя – СССР, детством, любовью и друзьями: советское прошлое связано с биографическими и историческими событиями, происходящими в конкретный период – восьмидесятые годы; обращение к детству разделяется на обращение к советскому, школьному детству и детству как абстрактной категории; любовная элегия отражает различные эмоциональные состояния лирического героя: от болезненного сопротивления утраты любви до принятия этой потери и стремления двигаться дальше; обращение к друзьям тематически тесно связано с темой поэта и поэзии и смерти, такие тексты, частично относятся к жанру кладбищенской элегии. Среди индивидуальных жанровых доминант элегии, появляющихся в поэтике Бориса Рыжего, выделяются мотив кино (как способ работы с памятью), локус (в отдельных случаях – хронотоп) города (который играет роль самостоятельной причины элегической эмоции или сохраняет память лирического героя о прошлом) и мотив музыки (выполняющий несколько функций – сохранение воспоминаний, созидающее прошлое сила, обобщение творчества в связи с темой творческой реализации автора).
Одной из таких доминант является мотив кино. В некоторых текстах («Кино», «Лейся, песня, – теперь все равно…») кино выступает отчасти как маркер времени, становясь в памяти героя характерной чертой восьмидесятых. В то же время кино в этих случаях является способом взаимодействия лирического героя с собственной памятью. В стихотворении «Кино» кино – метафора для восьмидесятых как биографического периода в жизни лирического героя; в «Лейся, песня, – теперь все равно…» кино выступает не только как форма объективизации памяти и ее художественного осмысления, но и как явление, проводящее границу между настоящим и прошлым.
Кино приобретает значение атрибута прошлого, становясь частью его хронотопа – так происходит в текстах «Не забывай, не забывай…», где кинотеатр упоминается в ряду других объектов времени и ситуации: «Не забывай, не забывай / игру в очко на задней парте. / Последний ряд кинотеатра. / Ночной светящийся трамвай» [10, С. 308]. В тексте «На мотив Луговского» кино также включается в один ряд с реалиями прошлой жизни: «Надо, чтобы нас накрыла снова, / унесла зеленая волна / в море жизни, океан былого, / старых фильмов, музыки и сна» [10, С. 311].
Кино как процесс прокручивания киноплёнки, становясь формой взаимодействия лирического героя с собственной памятью, в некоторых текстах отрывается от своего непосредственного наполнения и предстаёт как процесс перематывания воспоминаний. Так, в тексте «Отмотай-ка жизнь мою назад…» процесс отматывания плёнки становится формой воспоминания, а эпизоды из памяти представляются как кадры фильма: «вот иду я пьяный через сад, / осень, листопад. / Вот иду я: девушка с веслом / слева, а с ядром – / справа, время встало и стоит, / а листва летит» [10, С. 343].
Частым выбором элегического локуса в текстах Бориса Рыжего становится провинциальный город. Локус города связан со всеми тематическими ветвлениями элегического жанра в творчестве Рыжего, он является локусом для настоящих действий лирического героя и его воспоминаний о прошлом.
В некоторых текстах локус города может выступать самостоятельной причиной элегической эмоции лирического героя. В «На мотив Луговского» пространство Свердловска провоцирует воспоминания лирического героя, связанные с конкретными городскими локациями: «Всякий раз, гуляя по Свердловску, / я в один сворачиваю сквер, / там стоят торговые киоски / и висит тряпье из КНР. / За горою джинсового хлама / вижу я знакомые глаза» [10, С. 311].
В элегиях, обращенных к СССР, детству, любви и дружбе встречаются отдельные маркеры городского пространства: парки, аллеи, скверы, трамваи, улицы. Часто они являются выразителями жанровых черт элегии: элементы городского пространства изображаются осенью, становясь из локуса элегическим хронотопом. Они аккумулируют воспоминания лирического героя, связывая его прошлое и настоящее – например, именно такую роль играет аллея в тексте «Фонарь над кустами»: «И собирайся поскорее / туда, на темную аллею – / ходьбы туда всего лишь час – / быть с теми, кто за нас рыдает, / кто понимает, помнит, знает, / ждет. И волнуется за нас» [10, С. 47].
Последняя жанровая доминанта элегии в поэтике Бориса Рыжего – мотив музыки. Музыка выполняет функцию, схожую с ролью локуса города – она является средством сохранения воспоминаний и связи прошлого и настоящего. Такова ее роль в тексте «Отмотай-ка жизнь мою назад…». Песня, доносящая из репродуктора и поющая, «что любовь пройдет и жизнь пройдет, / пролетят года» [10, С. 343], помещается в пространство прошлого и становится запоминающейся для лирического героя деталью. Она, вместе с городскими пейзажами, провоцирует воспоминания лирического героя: «Что любовь пройдет, и жизнь пройдет, / вяло подпою» [10, С. 343]. В «Элегии» («Благодарю за каждую дождинку…») понятие музыки становится неотделимо от представления о прошлом: «Неотразимой музыкой былого / постукивать по пишущей машинке» [10, С. 330]. Музыка пронизывает прошлую жизнь лирического героя, переходя в настоящее: «… я начну / стучать по черным клавишам в надежде, / что вот чуть-чуть, и будет всё как прежде, / что, черт возьми, я прошлое верну» [10, С. 330].
Другая роль музыки в элегическом пространстве текстов Рыжего – созидательная. В стихотворении «Трубач и осень» игра трубача создаёт в сознании лирического героя и его возлюбленной город, который является выражением их чувств: «Я сказал: посмотри, как он низко берет, / и из музыки город встает. / Арки, лестницы, лица, дома и мосты – / неужели не чувствуешь ты? / Ты сказала: я чувствую город внутри» [10, С. 46]. Город существует, пока звучит музыка: «Ты сказала: как только он кончит играть, / все исчезнет, исчезнет опять» [10, С. 46]. Музыка является конституирующим фактором чувств лирического героя и возлюбленной: «Но настало туманное утро, и вдруг / все бесформенным стало вокруг / … Это таял наш город и тек по рукам – / навсегда, навсегда – по щекам» [10, С. 46]. Исчезновение музыки и последующее разрушение отношений порождает элегическую эмоцию лирического героя и его желание исправить прошедшее: «О, скажи мне, зачем я его не держал, / не просил, чтоб он дальше играл?» [10, С. 46].
Последняя из выделенных нами функций мотива музыки связана с темой художественной реализации творца. Эта тема играла одну из центральных ролей в поэтическом мире Бориса Рыжего. Реализация творцом своего потенциала и его признание в контексте мотива музыки связаны с образом Баха. Он появляется в двух текстах Рыжего. Первый из них – «Кусок элегии». Здесь тема творческой реализации художника (в широком смысле слова) звучит в двух последних стихах: «И музыку включи, пусть шпарит Бах – / он умер, но мелодия осталась» [10, С. 174]. Признание приходит к творцу после его смерти – именно эта мысль облегчает переживания лирического героя, из удручающего настоящего, в котором он приближается к смерти, обращающемуся к прошлому. В тексте «Серж эмигрировать мечтал…» образ Баха появляется в момент экзистенциального и творческого отчаяния лирического героя: «Едва живу, едва дышу, / что сочиню – не запишу, / на целый день включаю Баха, / … и перед смертью нету страха» [10, С. 164]. Тема признания творца после смерти здесь звучит косвенно, но образ Баха сохраняет значение творческого примера и символизм творческого пути и заслуженной поэтической славы.
Итак, внутреннее наполнение произведений Бориса Рыжего, относящихся к жанру элегии, обусловлено четырьмя различными причинами элегической эмоции лирического героя – СССР, детством, любовью и друзьями: советское прошлое связано с биографическими и историческими событиями, происходящими в конкретный период – восьмидесятые годы; обращение к детству разделяется на обращение к советскому, школьному детству и детству как абстрактной категории; любовная элегия отражает различные эмоциональные состояния лирического героя: от болезненного сопротивления утраты любви до принятия этой потери и стремления двигаться дальше; обращение к друзьям тематически тесно связано с темой поэта и поэзии и смерти, такие тексты, частично относятся к жанру кладбищенской элегии. Среди индивидуальных жанровых доминант элегии, появляющихся в поэтике Бориса Рыжего, выделяются мотив кино (как способ работы с памятью), локус (в отдельных случаях – хронотоп) города (который играет роль самостоятельной причины элегической эмоции или сохраняет память лирического героя о прошлом) и мотив музыки (выполняющий несколько функций – сохранение воспоминаний, созидающее прошлое сила, обобщение творчества в связи с темой творческой реализации автора).
Библиография
- Артёмова С.Ю. Лирические жанры сегодня: монография. Тверь: Тверской государственный университет, 2020. 191 с.
- Боровская А.А. Жанровые трансформации в русской поэзии первой трети ХХ века: 10.01.08: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических. Астрахань, 2009. 46 с.
- Горин, С.В. «Внутренняя мера» элегического жанра в новоевропейской литературе // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 107. С. 131–145.
- Жулькова К.А. О лирике Бориса Рыжего: мотивы смерти // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7, Литературоведение: Реферативный журнал. 2020. №2. С. 165–171.
- Козлов В.И. Русская элегия неканонического периода: типология, история, поэтика: специальность 10.01.01. «Русская литература»: Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. Москва, 2013. 418 с.
- Машевский А. Г. Последний советский поэт: О стихах Бориса Рыжего // Новый мир. 2001. № 12. С. 174–178.
- Меркушов С.Ф. Экзистенциальный абсурд в творчестве Б. Рыжего: “Внутренняя эмиграция” в детство // Вестник ТвГУ. Сер. “Филология”. Тверь, 2019. №3 (62). С. 32–38.
- Непомнящих Н. А. Мотив воли к смерти в творчестве Бориса Рыжего // Сибирский филологический журнал. 2017. №. 2. С. 110–122.
- Рыжий Б.Б. В кварталах дальних и печальных: Избранная лирика. Роттердамский дневник. М.: Искусство–XXI век, 2013. 576 с.
- Рыжий Б.Б. Здесь трудно жить, когда ты безоружен. М: Зебра Е, 2018. 400 с.