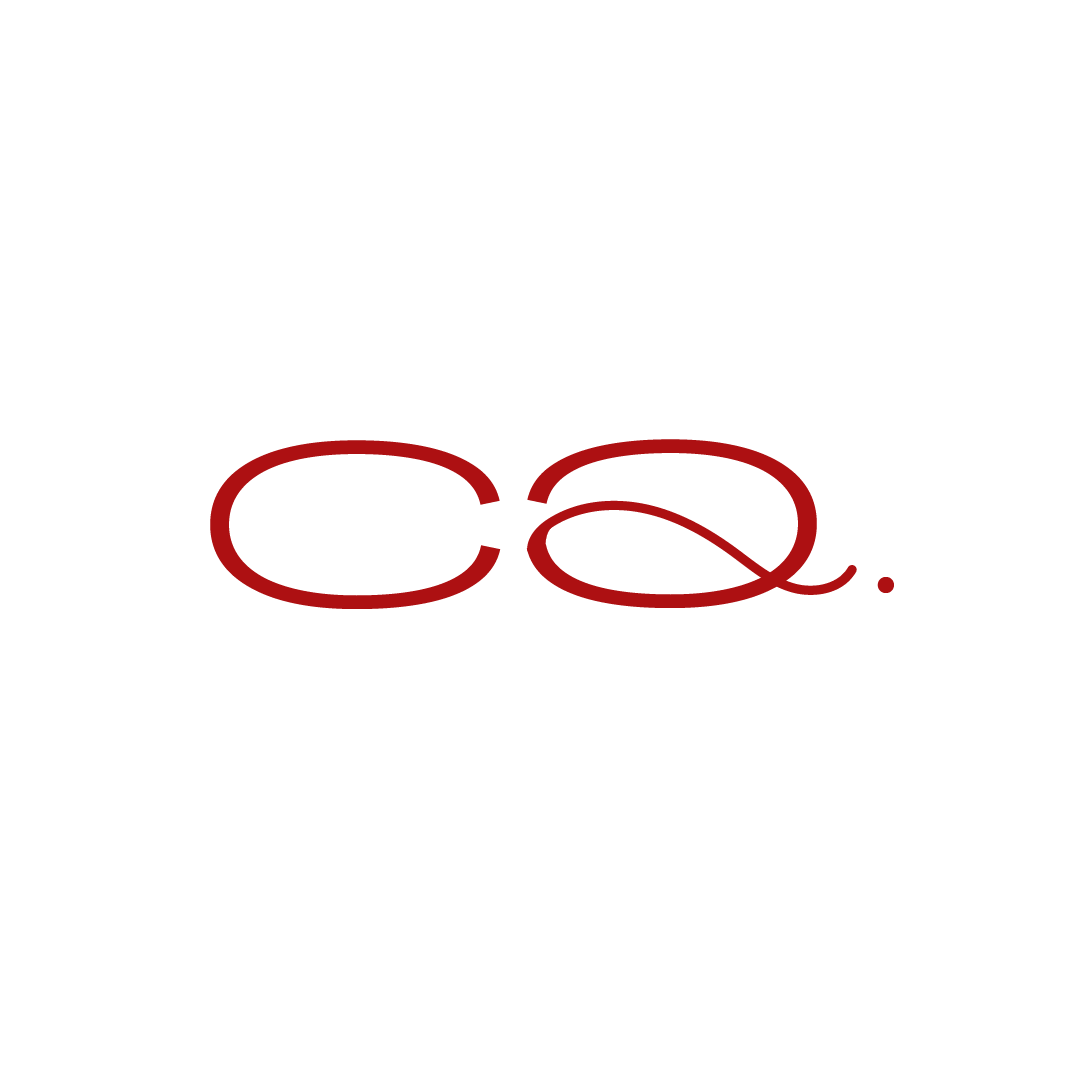Мотив двойничества в поэзии Бориса Рыжего
The motif of duality in the poetry of Boris Ryzhy
АВТОРЫ:
Пахомова Лилия
Табакова Полина
Пахомова Лилия
Табакова Полина
НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:
Большухин Леонид Юрьевич Замятина Оксана Вадимовна
Большухин Леонид Юрьевич Замятина Оксана Вадимовна
Аннотация
Abstract
В статье рассматривается реализация мотива двойничества в корпусе лирических текстов Бориса Рыжего. Выдвигается гипотеза о связи мотива двойничества с биографической фигурой Сергея Лузина и особой организацией художественного мира, в котором взаимоотношения «Жилина» и лирического субъекта трансформируются и отражают социальную конфронтацию «бандитов и поэтов». Особое внимание уделяется многоплановости и аллюзивности образа Сергея Лузина. Научная новизна исследования определяется тем, что в нём впервые прослеживается всё многообразие воплощений образа Лузина и затрагивается проблема идентификации его как героя-двойника, а также анализируется влияние биографического контекста на специфику конфликта. В статье, на материале анализа избранных текстов Бориса Рыжего, авторы приходят к ряду выводов, указывающих на специфический характер отношений лирического субъекта и «Жилина». За основу в работе взята классификация Валерия Владимировича Лепахина, согласно которой авторами была рассмотрена трансформация взаимоотношений лирического субъекта и его двойника.
The article deals with the implementation of the motif of duality in the corpus of lyrical texts by Boris Ryzhy. A hypothesis is put forward about the connection between the motif of duality with the biographical figure of Sergei Luzin and the special organization of the artistic world, in which the relationship between Zhilin and the lyrical subject is transformed and reflects the social confrontation of "bandits and poets". Particular attention is paid to the versatility and allusiveness of the image of Sergei Luzin. The scientific novelty of the study is determined by the fact that for the first time it traces all the variety of incarnations of Luzin's image and touches upon the problem of identifying him as a double hero, and also analyzes the influence of the biographical context on the specifics of the conflict. In the article, based on the analysis of selected texts of Boris Ryzhy, the authors come to a number of conclusions, pointing to the specific nature of the relationship between the lyrical subject and Zhilin. The work is based on the classification of Valery Vladimirovich Lepakhin, according to which the authors considered the transformation of the relationship between the lyrical subject and his double.
Keywords
лирика, лирический субъект, лирический персонаж, стихотворение, мотив в лирике, двойник, двойничество, дуальность, биографический контекст, автобиографичность
lyrics, lyrical subject, lyrical character, poem, motive in lyrics, double, duality, duality, biographical context, autobiographical
Ключевые слова
Для начала определимся с понятиями, которыми мы оперировали в своей работе. Филолог Самсон Наумович Бройтман определяет действующие лица в лирике как лирический субъект и лирический персонаж. Лирический субъект, он же лирический герой – это носитель речи, его точка зрения на мир и оценка этого мира – основная и всеобъемлющая. В рассматриваемом массиве стихотворений Бориса Рыжего этим лирическим субъектом стал сам поэт, то есть воплощение личности Бориса Рыжего в тексте. Под лирическим персонажем подразумевается изображенное в произведении лицо, чья жизненно-этическая активность представлена в оценке лирического субъекта. [1, С. 112-113] Иными словами, это отдельный действующий персонаж, так или иначе взаимосвязанный с лирическим «Я» и оказывающий на него непосредственное влияние, в нашем случае это персонаж Сергея Лузина.
Сергей Лузин, фрагмент из документального фильма Алены Ван дер Хорст
Опираясь на документальный фильм Алены Ван дер Хорст, удалось составить некоторое общее представление о человеке, который стал прототипом этого персонажа. Серёжа Лузин – лучший друг Бориса. По словам его соседей, живёт в доме, где обитают “нехорошие парни”, вместе с женой Светланой. Сестре Рыжего, Ольге, Лузин говорит, что товарищи, парни уважали Рыжего не за стихи. Он мог “похулиганить, врезать кому-нибудь”. Он утверждает, что, если бы социальный строй не изменился, все пошли бы работать на завод, а когда “всё переломалось, все пошли в бизнес, криминал”. Со слов друга, Рыжий был свой среди чужих и чужой среди своих, “в интеллигентский круг он не вписывался”, но при этом “не мог криминалом заниматься. Такой внутренний конфликт.” Затем, прослушав стихотворение «Зависло солнце над заводами…», Сергей повторяет последние строки и говорит: “Страшно. Я так-то суеверный”. [Дважды плюёт, трижды стучит по столу.] На вопрос: “Это о тебе, получается?” говорит только: “Возможно…” [2]
Этот документальный эпизод является важным для выборки стихотворений по нашей теме. Дело в том, что, зная о менталитете своего окружения, Рыжий мог намеренно не упоминать полные имя-фамилию своего друга, ставшего в итоге прототипом типичного свердловского бандита в тех стихотворениях, где этот персонаж погибает. Серёга Лузин или хотя бы Серёга Л. упоминается у Рыжего в воспоминаниях о школьных годах (Составив парты, мы играем в карты. // Серега Л. мочится из окна. [4, С. 345]), а также в текстах, где нет биографических подробностей лирического персонажа, то есть он лишь выступает спутником лирического «Я» поэта (Но раз в полгода куклу убирают, // и с Лузиным Серегой запивает // толковый опустившийся актер [4, С. 440]), либо же этот персонаж подчёркивает социальный контраст в окружении Рыжего: Леонтьев – гений и поэт, // и До́зморов, базару нет, // поэт, а Лузин – абсолютный // на РТИ авторитет. [4, С. 459]
Без фамилии или под фамилией «Жилин» персонаж упоминается в основном в текстах, где либо его образ жизни представлен как аморальный: он совершает преступление, садится в тюрьму или, наоборот, из тюрьмы выходит, либо же в стихотворениях, где персонаж назван погибшим, и лирический герой узнаёт о его смерти или приходит к нему на кладбище. Выдуманная фамилия вполне могла быть производной от бандитской клички Сергея Лузина, на что отчасти намекают строки: Серегу-жилу со товарищи // убили в Туле, на разборке… [4, С. 245] (здесь, в авторском варианте, приписка «жила» возникает с маленькой буквы). Исходя из этих доводов, а также опираясь на общие моменты в истории персонажей, схожие черты их характера и другие детали, о которых речь пойдёт далее, допустимо считать лирических персонажей с именами Серёга Жилин, Серёга Лузин и просто Серёга за одного персонажа.
В результате анализа ряда стихотворений Бориса Рыжего, связанных между собой этим персонажем, была сформирована гипотеза о том, что Серёга выступает героем-двойником лирического субъекта, причём тип их двойничества меняется в зависимости от описываемого в тексте этапа жизни обоих.
Без фамилии или под фамилией «Жилин» персонаж упоминается в основном в текстах, где либо его образ жизни представлен как аморальный: он совершает преступление, садится в тюрьму или, наоборот, из тюрьмы выходит, либо же в стихотворениях, где персонаж назван погибшим, и лирический герой узнаёт о его смерти или приходит к нему на кладбище. Выдуманная фамилия вполне могла быть производной от бандитской клички Сергея Лузина, на что отчасти намекают строки: Серегу-жилу со товарищи // убили в Туле, на разборке… [4, С. 245] (здесь, в авторском варианте, приписка «жила» возникает с маленькой буквы). Исходя из этих доводов, а также опираясь на общие моменты в истории персонажей, схожие черты их характера и другие детали, о которых речь пойдёт далее, допустимо считать лирических персонажей с именами Серёга Жилин, Серёга Лузин и просто Серёга за одного персонажа.
В результате анализа ряда стихотворений Бориса Рыжего, связанных между собой этим персонажем, была сформирована гипотеза о том, что Серёга выступает героем-двойником лирического субъекта, причём тип их двойничества меняется в зависимости от описываемого в тексте этапа жизни обоих.
Гипотеза возникла на основании того факта, что сам образ двойника в культуре породило прохождение героем фазы смерти, а в рассмотренных в рамках исследования стихотворениях, как и в целом в творчестве Бориса Рыжего, мотив смерти оказывается одним из основных. Ольга Фрейденберг описывала развитие двойничества в литературе следующим образом: “Сперва герой двоичен; затем его вторая часть, брат или друг, становится самостоятельной. Смертный герой остается в преисподней, а победитель смерти выходит снова на свет и живет.” [5, С. 210] Такую последовательность можно проследить в целом во взаимоотношениях героев стихотворений Бориса Рыжего, результатом которых (т.е. взаимоотношений) становится смерть двойника лирического «Я» автора. Кроме того, Фрейденберг отмечала, что “смерть и глупость идут рядом, и потому там, где есть уже одна из метафор «смерти», появляется и другая” [5, С. 211], что в том числе отсылает к специфике плутовских романов. В этом комическом жанре литературы двойником барина является “слуга и шут, который подвержен переменам бытия и авантюрам. Наиболее частая метафора таких превратностей представлена обычно в смене социальных положений и мест” [5, С. 294], что также можно проследить в творчестве Рыжего при анализе совокупности его стихотворений.
Теоретической основой для определения специфики двойничества в поэзии Бориса Рыжего послужила типология двойничества Валерия Владимировича Лепахина. Согласно ей, выделяется три типа двойничества: с-двоение, у-двоение и раз-двоение.
У-двоение
С-двоение
Раз-двоениЕ
это тип двойничества, при котором у персонажа, его личности, рождается внутренний двойник. Появление alter ego может стать следствием противопоставления в сознании героя идеала и действительности, хороших и дурных, имеющихся и желаемых черт характера, а также результатом персонификации прошлой жизни, столкновения новых и старых представлений о жизни и о себе.
Зачастую двойник (вне зависимости от типа) следует за лирическим героем, преследует его, пытается вытеснить из жизни, занять его место. [3, С. 143]
Зачастую двойник (вне зависимости от типа) следует за лирическим героем, преследует его, пытается вытеснить из жизни, занять его место. [3, С. 143]
возникает, когда двойник появляется рядом с героем и герой видит в нем самого себя – и душевно, и психологически, и физически (иногда такое явление сопровождается мотивом зеркального отражения). Это также внешний двойник, но при этом удвоение не приводит к раздвоению личности персонажа изнутри. [3, С. 143]
образуется путем придания персонажу двойника извне, что характерно для многих мифологий и эпосов. Двойничество, основанное на противопоставлении персонажей, являющихся воплощением различных нравственных понятий, в частности, добра и зла, связанных с ними удачливости и невезения, силы и слабости, красоты и уродства. В таких случаях получается, что у культурного героя имеется демонический или же комический двойник, не представляющий собой alter ego лирического героя. [3, С. 143]
В самом общем плане всех двойников героя или персонажа – как в прозе, так и в поэзии – можно разделить на две большие группы: двойник-враг (демон, бес, любая нечистая сила, иногда скрывающаяся под маской друга) и двойник-друг (истинное «я» героя, его защитник, помощник, покровитель, ангел). Первый обычно выступает обвинителем, роковым преследователем, разрушительно действующим на личность и на судьбу героя, нередко стремясь вытеснить его из жизни, подменив собой; второй – стремится помочь герою, наставить его на путь истинный. [3, С. 144]
У Бориса Рыжего характер двойничества лирического героя с рассматриваемым нами персонажем Серёги меняется в зависимости от жизненного этапа, проживаемого героями, поэтому закономерно рассматривать тексты в порядке взросления авторского лирического «Я».
В самом начале описанного в стихотворениях жизненного пути персонажей они предстают как бы уже удвоенными и тесно связанными друг с другом: как только лирический персонаж Серёги возникает рядом с Рыжим, тот видит в Серёге себя; поэт описывает их совместные похождения, общий жизненный уклад, детство либо юность:
У Бориса Рыжего характер двойничества лирического героя с рассматриваемым нами персонажем Серёги меняется в зависимости от жизненного этапа, проживаемого героями, поэтому закономерно рассматривать тексты в порядке взросления авторского лирического «Я».
В самом начале описанного в стихотворениях жизненного пути персонажей они предстают как бы уже удвоенными и тесно связанными друг с другом: как только лирический персонаж Серёги возникает рядом с Рыжим, тот видит в Серёге себя; поэт описывает их совместные похождения, общий жизненный уклад, детство либо юность:
По локти руки за чертой разлуки –
и расцветают яблони весной.
«Весны» монофонические звуки,
тревожный всхлип мелодии блатной.
Составив парты, мы играем в карты.
Серега Л. мочится из окна.
И так все хорошо, как будто завтра,
как в старом фильме, началась война. [4, С. 345]
и расцветают яблони весной.
«Весны» монофонические звуки,
тревожный всхлип мелодии блатной.
Составив парты, мы играем в карты.
Серега Л. мочится из окна.
И так все хорошо, как будто завтра,
как в старом фильме, началась война. [4, С. 345]
Здесь Серёга предстаёт как двойник-друг, и вместе с этим появляется мотив шутовства, наивности, глупости: лирическое «Я» поддерживает мальчишеские авантюры и охотно следует за другом. То же самое можно наблюдать и в другом стихотворении о школьных годах:
...Нам взяли ноль восьмую алкаши –
и мы, я и приятель мой Серега,
отведали безумия в глуши
строительной, сбежав с урока. [4, С. 260]
и мы, я и приятель мой Серега,
отведали безумия в глуши
строительной, сбежав с урока. [4, С. 260]
Но уже в конце этого же стихотворения начинается сдвоение персонажей: лирический герой начинает подчёркнуто противопоставлять себя Серёге, указывая на сходство условий, в которых они выросли, однако отмечая различие их жизненных путей:
...Таков рассказ. Чего добавить тут?
вот я пришел домой перед рассветом.
Вот я закончил Горный институт.
Ты пил со мной, но ты не стал поэтом. [4, С. 260]
вот я пришел домой перед рассветом.
Вот я закончил Горный институт.
Ты пил со мной, но ты не стал поэтом. [4, С. 260]
Также здесь можно отметить возникновение у Бориса Рыжего концепции дуальности мира: появляется разделение на бандитов и поэтов; автор ставит бескомпромиссный выбор между двумя, можно сказать, крайностями. (Здесь стоит уточнить, что это не первый текст Рыжего, где появляется подобное разделение, но первый в логической цепочке и самый ранний – относительно возраста героев).
Далее это разделение только усиливается, Рыжий «нащупывает» момент, когда между его лирическим «Я» и персонажем Серёги происходит резкое разделение:
Далее это разделение только усиливается, Рыжий «нащупывает» момент, когда между его лирическим «Я» и персонажем Серёги происходит резкое разделение:
Вместе мы учились в школе, мы учились в пятом классе,
а потом в шестом учились и в седьмом учились мы,
и в восьмом, что разделяет наше общество на классы.
Я закончил класс десятый, Серый вышел из тюрьмы. [4, С. 276]
а потом в шестом учились и в седьмом учились мы,
и в восьмом, что разделяет наше общество на классы.
Я закончил класс десятый, Серый вышел из тюрьмы. [4, С. 276]
Здесь же возникает важный момент биографии Серёги: он отсидел в тюрьме. В дальнейшем этот мотив будет возникать снова и снова: Рыжий наделял своего персонажа этим «достижением» в совершенно разном возрасте, но оставлял этот факт неизменным условием. Кроме того, подчеркнём, что противопоставление героев через расхождение их жизненных путей здесь не развивается в открытую конфронтацию, напротив, – лирический герой и Серёга всё ещё имеют много общего и возвращаются к совместному времяпрепровождению (вновь возникает мотив глупости, шутовства):
Обнялись, поцеловались, выпили и закусили,
станцевали в дискотеке, на турбазе сняли баб,
на одной из местных строек пьяных нас отмолотили
трое чурок, а четвертый – русский, думаю – прораб. [4, С. 276]
станцевали в дискотеке, на турбазе сняли баб,
на одной из местных строек пьяных нас отмолотили
трое чурок, а четвертый – русский, думаю – прораб. [4, С. 276]
Такую же попытку лирического героя вернуться к удвоению с двойником, только теперь посмертно, можно увидеть и в стихотворении, где «Я» Рыжего уже идентифицировано как состоявшийся и почитаемый поэт, а следовательно, пути их с Серёгой разошлись ещё сильнее:
Пускай тогда, когда затылком стукну
по днищу гроба, в подземелье рухну,
заплаканные свердловчане пусть
нарядят механическую куклу
в мое шмотье, придав движеньям грусть.
И пусть себе по скверу шкандыбает,
пусть курит «Приму» или «Беломор».
Но раз в полгода куклу убирают,
и с Лузиным Серегой запивает
толковый опустившийся актер. [4, С. 440]
по днищу гроба, в подземелье рухну,
заплаканные свердловчане пусть
нарядят механическую куклу
в мое шмотье, придав движеньям грусть.
И пусть себе по скверу шкандыбает,
пусть курит «Приму» или «Беломор».
Но раз в полгода куклу убирают,
и с Лузиным Серегой запивает
толковый опустившийся актер. [4, С. 440]
Но вернёмся к сдвоению. Иные жизненные ориентиры друга-двойника своего лирического героя Рыжий подчёркивает всё тем же фактом тюремного заключения:
Трамвай гремел. Закат пылал.
Вдруг заметался
Серега, дальше побежал,
а мент остался.
Ребята пояснили мне:
Сереге будет
весьма вольготно на тюрьме,
не те, кто судят
страшны, а те, кто осужден. [4, С. 352]
Вдруг заметался
Серега, дальше побежал,
а мент остался.
Ребята пояснили мне:
Сереге будет
весьма вольготно на тюрьме,
не те, кто судят
страшны, а те, кто осужден. [4, С. 352]
Важно понимать, что сам персонаж Серёги не меняется, не принимает решений, а действует абсолютно векторно, в то время как его восприятие авторским лирическим «Я» постепенно трансформируется, то есть Серёга выступает координатой самоопределения лирического героя: «если он – такой, то я – другой». При этом мир Рыжего не становится полярным в восприятии лирического героя, он не поддаётся таким упрощениям и оказывается более многогранным, о чём косвенно говорит тесное сосуществование представителей двух социальных категорий, выделяемых поэтом:
Вы, Нина, думаете, вы
нужны мне, что вы, я, увы,
люблю прелестницу Ирину,
а вы, увы, не таковы.
Ты полагаешь, Гриня, ты
мой друг единственный, – мечты!
Леонтьев, Дозморов и Лузин,
вот, Гриня, все мои кенты.
Леонтьев – гений и поэт,
и Дозморов, базару нет,
поэт, а Лузин – абсолютный
на РТИ авторитет. [4, С. 459]
нужны мне, что вы, я, увы,
люблю прелестницу Ирину,
а вы, увы, не таковы.
Ты полагаешь, Гриня, ты
мой друг единственный, – мечты!
Леонтьев, Дозморов и Лузин,
вот, Гриня, все мои кенты.
Леонтьев – гений и поэт,
и Дозморов, базару нет,
поэт, а Лузин – абсолютный
на РТИ авторитет. [4, С. 459]
Следующим закономерным этапом двойничества должно стать раздвоение героя, то есть полноценное противопоставление лирического героя персонажу Серёги, даже некая конкуренция между ними:
Двенадцать лет. Штаны вельвет. Серега Жилин слез с забора и, сквернословя на чем свет, сказал событие. Ах, Лора. Приехала. Цвела сирень. В лицо черемуха дышала. И дольше века длился день. Ах, Лора, ты существовала в башке моей давным-давно. Какое сладкое мученье играть в футбол, ходить в кино, но всюду чувствовать движенье иных, неведомых планет, они столкнулись волей бога: с забора Жилин слез Серега, и ты приехала, мой свет.
Кинотеатр: «Пираты двадцатого века». «Буратино» с «Дюшесом». Местная братва у «Соки-Воды» магазина. А вот и я в трико среди ребят – Семеныч, Леха, Дюха – рукой с наколкой «ЛЕБЕДИ» вяло почесываю брюхо. Мне сорок с лихуем. Обилен, ворс на груди моей растет. А вот Сергей Петрович Жилин под ручку с Лорою идет — начальник ЖКО, к примеру, и музработник в детсаду.
Когда мы с Лорой шли по скверу и целовались на ходу, явилось мне виденье это, а через три-четыре дня – гусара, мальчика, поэта – ты, Лора, бросила меня. [4, С. 379]
Кинотеатр: «Пираты двадцатого века». «Буратино» с «Дюшесом». Местная братва у «Соки-Воды» магазина. А вот и я в трико среди ребят – Семеныч, Леха, Дюха – рукой с наколкой «ЛЕБЕДИ» вяло почесываю брюхо. Мне сорок с лихуем. Обилен, ворс на груди моей растет. А вот Сергей Петрович Жилин под ручку с Лорою идет — начальник ЖКО, к примеру, и музработник в детсаду.
Когда мы с Лорой шли по скверу и целовались на ходу, явилось мне виденье это, а через три-четыре дня – гусара, мальчика, поэта – ты, Лора, бросила меня. [4, С. 379]
В этом тексте видна явная попытка alter ego, то есть Серёги, вытеснить персонажа Рыжего, которая реализуется через соперничество за внимание девушки. Также здесь возникает смена социальных положений героев, которая вновь отсылает к плутовскому роману. Однако тот факт, что эта картинка «перевёрнутых» взаимоотношений героев (Рыжий – бандит, Серёга – интеллигент) изображается поэтом как видение, с одной стороны, говорит о несовершенности раздвоения, а с другой – усиливает социальное и психологическое отдаление героев друг от друга.
Высшей точкой разделения героя и его двойника становится смерть последнего. Согласно античной традиции, смертный герой обычно наделён какой-либо из метафор смерти: рабство, старость, глупость; гибель такого персонажа означает торжество положительных ценностей, отразившихся в лирическом «Я». Сам же герой Рыжего, ставший «победителем смерти», к событиям никак не причастен, и чаще всего узнаёт о гибели Серёги косвенно:
Высшей точкой разделения героя и его двойника становится смерть последнего. Согласно античной традиции, смертный герой обычно наделён какой-либо из метафор смерти: рабство, старость, глупость; гибель такого персонажа означает торжество положительных ценностей, отразившихся в лирическом «Я». Сам же герой Рыжего, ставший «победителем смерти», к событиям никак не причастен, и чаще всего узнаёт о гибели Серёги косвенно:
И горько в сквере облетающем
услышать вдруг скороговорку:
«Серегу-жилу со товарищи
убили в Туле, на разборке…» [4, С. 245]
услышать вдруг скороговорку:
«Серегу-жилу со товарищи
убили в Туле, на разборке…» [4, С. 245]
Продолжает тему чуть более поздний текст, не содержащий упоминания персонажей по имени, однако встраивающийся в тематическую канву:
Жизнь – суть поэзия, а смерть – сплошная проза.
...Предельно траурна братва у труповоза.
Пол-облака висит над головами. Гроб
вытаскивают – блеск – и восстановлен лоб,
что в офисе ему разбили арматурой.
Стою, взволнованный пеоном и цезурой! [4, С. 398]
...Предельно траурна братва у труповоза.
Пол-облака висит над головами. Гроб
вытаскивают – блеск – и восстановлен лоб,
что в офисе ему разбили арматурой.
Стою, взволнованный пеоном и цезурой! [4, С. 398]
Здесь смерть двойника, наделённого иными жизненными ценностями, в отличие от античной традиции, не преподносится как триумф, напротив, лирический герой сожалеет о случившемся, рефлексирует о совместном прошлом, осмысляет смерть друга:
На границе между сном и явью
я тебя представлю
в лучшем виде, погляжу немного
на тебя, Серега.
Где мы были? С кем мы воевали?
Что мы потеряли?
Что найду я на твоей могиле,
кроме «жили-были»? [4, С. 511]
я тебя представлю
в лучшем виде, погляжу немного
на тебя, Серега.
Где мы были? С кем мы воевали?
Что мы потеряли?
Что найду я на твоей могиле,
кроме «жили-были»? [4, С. 511]
Отношение героя-победителя смерти к погибшему Серёге дополняется наделением последнего образом спасителя, как, например, в Роттердамском дневнике (“В эту же ночь мы бежали. В больничных тапочках и пижамах – он своей дорогой, я своей, к школьному другу Сереге Лузину, не к жене же, не к родителям.” [4, С. 522] и “Но я не Гомер и не Гоголь, чтоб суметь в деталях описать всю прелесть сражения. Помню, меня сбили с ног и стали пинать, но тут же подоспел Серый Лузин и на секунду, за которую я успел встать, оттеснил злодеев.” [4, С. 544]), или даже образом ангела-хранителя в одном стихотворении:
В сырой наркологической тюрьме,
куда меня за глюки упекли,
мимо ребят, столпившихся во тьме,
дерюгу на каталке провезли
два ангела – Серега и Андрей, – не
оглянувшись, типа все в делах,
в задроченных, но белых оперениях
со штемпелями на крылах. [4, С. 424]
куда меня за глюки упекли,
мимо ребят, столпившихся во тьме,
дерюгу на каталке провезли
два ангела – Серега и Андрей, – не
оглянувшись, типа все в делах,
в задроченных, но белых оперениях
со штемпелями на крылах. [4, С. 424]
Упоминания о смерти некоторого персонажа, бандита или зека, есть и в других стихотворениях Рыжего, что лишний раз говорит о типичности героя и ситуации, изображаемой Рыжим в лирике. Примечательным становится поэтический автокомментарий Рыжего, в котором он как бы отдаёт себе отчёт в том, что его персонаж не совсем абстрактен и далеко не вымышлен, и потому рассуждает, что в его случае классической “смерти демонического двойника” может и не произойти:
Трижды убил в стихах реального человека,
и надо думать, однажды он эти стихи прочтет.
Последнее, что увижу, будет улыбка зека,
типа: в искусстве – эдак, в жизни – наоборот.
В темном подъезде из допотопной дуры
в брюхо шмальнет и спрячет за отворот пальто.
Надо было выдумывать, а не писать с натуры.
Кто вальнул Бориса? Кто его знает, кто! [4, С. 468]
и надо думать, однажды он эти стихи прочтет.
Последнее, что увижу, будет улыбка зека,
типа: в искусстве – эдак, в жизни – наоборот.
В темном подъезде из допотопной дуры
в брюхо шмальнет и спрячет за отворот пальто.
Надо было выдумывать, а не писать с натуры.
Кто вальнул Бориса? Кто его знает, кто! [4, С. 468]
Выходит так, что в творчестве Рыжего можно проследить, как фрагментарно представлен весь совместный жизненный путь персонажа Бориса Рыжего и его двойника Серёги, наделённого отличными от авторского «Я», но не менее сложными и противоречивыми чертами. Можно предположить, что через взаимоотношения этих героев автор пытается наглядно и последовательно раскрыть концепцию о бандитах и поэтах, вышедших из одинаковых условий и находящихся в тесной духовной и социальной связи, и тем не менее по-разному проживших свою эпоху.
Библиография
- Бройтман С.Н. Лирический субъект / С.Н. Бройтман – Текст: непосредственный // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко]. – М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. – 358 с.
- Борис Рыжий / реж. Алена ван дер Хорст – Екатеринбург, 2008-2009. – URL: https://youtu.be/_no_zt-y8ys
- Лепахин В.В. Типы двойничества и двойники в лирике Я. Полонского и А. Блока / В.В. Лепахин – Текст: непосредственный // Я. П. Полонский: личность, творчество, эпоха. Cборник статей по материалам II Международной научно-практической конференции, (посвящается 200-летию со дня рождения поэта). Том Вып. 2. – Р.: Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, 2019 – 388 с.
- Рыжий Б.Б. В кварталах дальних и печальных: Избранная лирика. Роттердамский дневник / Б.Б. Рыжий – М.: Искусство–XXI век, 2021. 6-е изд. – 576 с., 16 с. Вкл.: ил.
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра / О.М. Фрейденберг; подготовка текста, справочно-научный аппарат, предварение, послесловие Н.В. Брагинской. – М.: Издательство “Лабиринт”, 1997. – 448 с.