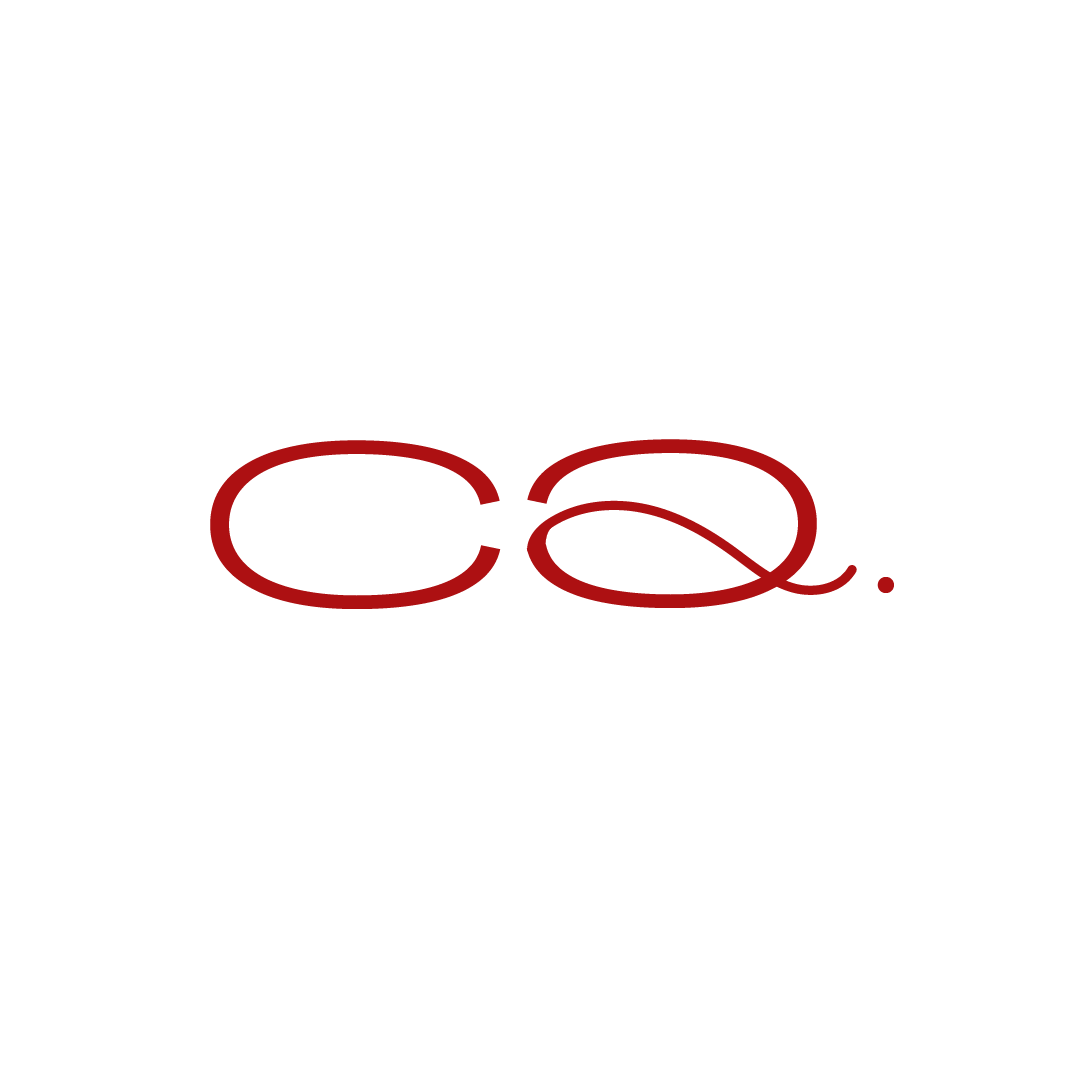тамара кезина
Интервью.
звучащие 90-е.
звучащие 90-е.
Дата
интервьюеры
Неизвестно
Юнина Елизавета
Келлерман Анастасия
Келлерман Анастасия
послушать аудиозапись:


Как и когда вы попали в Болдино?
Тамара Кезина:
Знаете, у меня всегда было такое ощущение, что меня как бы сама судьба вела. Я, кстати, в своей последней книжке об этом пишу. Начнем с того, что моя мама урожденная Болдина, а мое детство прошло в бывших барских усадьбах, тогда там школы часто открывали. Мы часто переезжали, и одно село было прежде имением рода Пушкиных, и называлось тоже Пушкино. То есть, как будто какие-то знаки были расставлены.
И я очень рано полюбила именно русскую классическую литературу. XIX век – это был мой век всегда. Душа просто ошиблась, наверное, и должна была быть там. В общем, у меня было всегда такое ощущение, что XIX век, он очень близко, ну и Пушкин, конечно, один из первых, кого, научившись читать, я прочла и полюбила. Для нашего поколения Пушкин не просто был одним из любимых поэтов. Можно сказать, что он входил в нашу жизнь с первых лет, и мы учились видеть мир его глазами.
Пушкин всегда был очень любим. Но я не думала, ни в детстве, ни в ранней юности, что буду работать в таком месте, которое настолько связано с Пушкиным.
Я поступила в пединститут, увлекалась методикой преподавания литературы. Мне это было очень интересно. Я хотела быть учителем русского и литературы, и после института начала работать в школе. Хорошая школа, недалеко от Саранска, мне там нравилось. Но в один прекрасный день, совершенно неожиданно (тогда начинался мой третий учебный год), вдруг звонит моя бывшая преподавательница, которая вела у нас литературу второй половины девятнадцатого века, Анатолия Игнатьевна Биржишко. Тогда она только что вернулась с Болдинских чтений, где от тогдашнего директора музея Юдифи Израилевны Левиной узнала, что им нужны научные сотрудники. Не хватает таких людей, которым по-настоящему это было бы интересно, которые готовы работать даже в сложных бытовых условиях. Анатолия Игнатьевна позвонила мне и спросила: «А вы не хотите поехать работать в Болдино?». Я сказала: «Конечно, хочу». А в Болдине я до этого была один раз, в восьмом классе нас просто возили на экскурсию. И Болдино меня совершенно поразило. Осень стояла чудная, совершенно пушкинская. Настолько все поэтично… ну вот просто то, о чем душа моя мечтала и где она жила! И я, положив трубку, иду на почту и отправляю телеграмму: «Прошу принять меня…».
Естественно, родители были в ужасе. На месте работы мне уже квартиру выделили, все уже как-то сложилось. Почти поссорилась с родителями, но тем не менее, я поехала в Болдино, встретилась с Юдифью Израилевной. Она мне все расписала, насколько здесь сложно, какие суровые условия, чтобы меня не обманывать и чтобы я обдумала все серьезно. Я выдержала ее суровый взгляд, все выслушала и спросила, когда же я могу приехать.
Через 10 дней я уже приехала с вещами. И 10 лет я жила в самой усадьбе. Это был 1976 год, и еще не было построек усадебного двора, здесь просто росла травка, тополя. И всего лишь за 13 лет до этого был открыт музей в бывшем барском доме Пушкиных. До этого времени в нем размещалась школа, а музей был только в старой вотчинной конторе (но это была еще другая экспозиция, не та, которую можно увидеть там сейчас). А наш бревенчатый домик стоял всего метрах в двухстах от дома-музея, мы любовно звали его халупой. Он был поделен на две части: в одной – директорская квартира, а в другой жили приезжие сотрудницы, вроде меня. Меня сразу приняли на должность научного сотрудника.
Все сотрудники, как правило, начинают с так называемой экскурсионно-массовой работы. Это значит водить экскурсии, читать лекции, готовить и проводить литературные вечера. Ну, мне страшно все это нравилось! Было поначалу непросто, потому что как раз был осень, и приезжало очень много экскурсионных групп, а тех, кто водил экскурсии, было в общей сложности всего пять человек. Довольно скоро, кроме вот этой массовой работы, и другая работа появилась.
Ну, во-первых, на меня возложили обязанность быть заведующей экспозиционным отделом. Сначала я просто была ответственной за экспозицию, а потом занималась подготовкой новых экспозиций и выставок.
Знаете, у меня всегда было такое ощущение, что меня как бы сама судьба вела. Я, кстати, в своей последней книжке об этом пишу. Начнем с того, что моя мама урожденная Болдина, а мое детство прошло в бывших барских усадьбах, тогда там школы часто открывали. Мы часто переезжали, и одно село было прежде имением рода Пушкиных, и называлось тоже Пушкино. То есть, как будто какие-то знаки были расставлены.
И я очень рано полюбила именно русскую классическую литературу. XIX век – это был мой век всегда. Душа просто ошиблась, наверное, и должна была быть там. В общем, у меня было всегда такое ощущение, что XIX век, он очень близко, ну и Пушкин, конечно, один из первых, кого, научившись читать, я прочла и полюбила. Для нашего поколения Пушкин не просто был одним из любимых поэтов. Можно сказать, что он входил в нашу жизнь с первых лет, и мы учились видеть мир его глазами.
Пушкин всегда был очень любим. Но я не думала, ни в детстве, ни в ранней юности, что буду работать в таком месте, которое настолько связано с Пушкиным.
Я поступила в пединститут, увлекалась методикой преподавания литературы. Мне это было очень интересно. Я хотела быть учителем русского и литературы, и после института начала работать в школе. Хорошая школа, недалеко от Саранска, мне там нравилось. Но в один прекрасный день, совершенно неожиданно (тогда начинался мой третий учебный год), вдруг звонит моя бывшая преподавательница, которая вела у нас литературу второй половины девятнадцатого века, Анатолия Игнатьевна Биржишко. Тогда она только что вернулась с Болдинских чтений, где от тогдашнего директора музея Юдифи Израилевны Левиной узнала, что им нужны научные сотрудники. Не хватает таких людей, которым по-настоящему это было бы интересно, которые готовы работать даже в сложных бытовых условиях. Анатолия Игнатьевна позвонила мне и спросила: «А вы не хотите поехать работать в Болдино?». Я сказала: «Конечно, хочу». А в Болдине я до этого была один раз, в восьмом классе нас просто возили на экскурсию. И Болдино меня совершенно поразило. Осень стояла чудная, совершенно пушкинская. Настолько все поэтично… ну вот просто то, о чем душа моя мечтала и где она жила! И я, положив трубку, иду на почту и отправляю телеграмму: «Прошу принять меня…».
Естественно, родители были в ужасе. На месте работы мне уже квартиру выделили, все уже как-то сложилось. Почти поссорилась с родителями, но тем не менее, я поехала в Болдино, встретилась с Юдифью Израилевной. Она мне все расписала, насколько здесь сложно, какие суровые условия, чтобы меня не обманывать и чтобы я обдумала все серьезно. Я выдержала ее суровый взгляд, все выслушала и спросила, когда же я могу приехать.
Через 10 дней я уже приехала с вещами. И 10 лет я жила в самой усадьбе. Это был 1976 год, и еще не было построек усадебного двора, здесь просто росла травка, тополя. И всего лишь за 13 лет до этого был открыт музей в бывшем барском доме Пушкиных. До этого времени в нем размещалась школа, а музей был только в старой вотчинной конторе (но это была еще другая экспозиция, не та, которую можно увидеть там сейчас). А наш бревенчатый домик стоял всего метрах в двухстах от дома-музея, мы любовно звали его халупой. Он был поделен на две части: в одной – директорская квартира, а в другой жили приезжие сотрудницы, вроде меня. Меня сразу приняли на должность научного сотрудника.
Все сотрудники, как правило, начинают с так называемой экскурсионно-массовой работы. Это значит водить экскурсии, читать лекции, готовить и проводить литературные вечера. Ну, мне страшно все это нравилось! Было поначалу непросто, потому что как раз был осень, и приезжало очень много экскурсионных групп, а тех, кто водил экскурсии, было в общей сложности всего пять человек. Довольно скоро, кроме вот этой массовой работы, и другая работа появилась.
Ну, во-первых, на меня возложили обязанность быть заведующей экспозиционным отделом. Сначала я просто была ответственной за экспозицию, а потом занималась подготовкой новых экспозиций и выставок.
Музей в 80-е годы
Тамара Кезина:
В 1979 году в наш музей пришел новый директор — Геннадий Иванович Золотухин. Это был опытный музейный работник, который ранее создавал музей Александра Грина в Феодосии. Затем он некоторое время работал в музее Горького в городе Горьком, и вот теперь стал директором музея в Болдине.
Его приход оказался как нельзя кстати: в тот момент требовался именно такой человек, ведь предстояли масштабные реставрационные работы. Геннадий Иванович обладал невероятной энергией и смелостью. Ему приходилось и спорить, и ругаться, и пробивать решения — такие процессы никогда не обходятся без трудностей. Кроме того, он был высококвалифицированным специалистом, прекрасно разбирающимся в своем деле, в частности, в вопросах, связанных с реставрацией.
В 1981 году Совет министров принял постановление о дальнейшем развитии Болдинского музея-заповедника. В документе предусматривалось восстановление всего усадебного комплекса, включая те постройки, которые не сохранились до наших дней. Также планировалось восстановление церкви и создание новых экспозиций как в самом главном доме, так и в тех зданиях, которые предстояло отреставрировать.
Все начиналось с разработки проектов. Первым делом был создан генеральный план развития всего заповедника, который включал в себя общую стратегию восстановления архитектурных объектов и благоустройства территории. Затем разрабатывался проект восстановления усадебного двора, причем для каждой постройки в отдельности. Естественно, перед началом работ необходимо было провести археологические раскопки, чтобы точно установить, где каждая постройка стояла.
Реставрация, проведенная в те годы, была выполнена на очень высоком уровне. Только реставрация главного дома заняла два года. Работы были завершены в 1988 году, и в том же году мы открыли в доме новую экспозицию.
Когда реставрация дома была завершена, окончательно подтвердилось, что это именно тот самый мемориальный дом, в котором жил Александр Сергеевич Пушкин. До 1980-х годов полной уверенности в этом не было.
В 1979 году в наш музей пришел новый директор — Геннадий Иванович Золотухин. Это был опытный музейный работник, который ранее создавал музей Александра Грина в Феодосии. Затем он некоторое время работал в музее Горького в городе Горьком, и вот теперь стал директором музея в Болдине.
Его приход оказался как нельзя кстати: в тот момент требовался именно такой человек, ведь предстояли масштабные реставрационные работы. Геннадий Иванович обладал невероятной энергией и смелостью. Ему приходилось и спорить, и ругаться, и пробивать решения — такие процессы никогда не обходятся без трудностей. Кроме того, он был высококвалифицированным специалистом, прекрасно разбирающимся в своем деле, в частности, в вопросах, связанных с реставрацией.
В 1981 году Совет министров принял постановление о дальнейшем развитии Болдинского музея-заповедника. В документе предусматривалось восстановление всего усадебного комплекса, включая те постройки, которые не сохранились до наших дней. Также планировалось восстановление церкви и создание новых экспозиций как в самом главном доме, так и в тех зданиях, которые предстояло отреставрировать.
Все начиналось с разработки проектов. Первым делом был создан генеральный план развития всего заповедника, который включал в себя общую стратегию восстановления архитектурных объектов и благоустройства территории. Затем разрабатывался проект восстановления усадебного двора, причем для каждой постройки в отдельности. Естественно, перед началом работ необходимо было провести археологические раскопки, чтобы точно установить, где каждая постройка стояла.
Реставрация, проведенная в те годы, была выполнена на очень высоком уровне. Только реставрация главного дома заняла два года. Работы были завершены в 1988 году, и в том же году мы открыли в доме новую экспозицию.
Когда реставрация дома была завершена, окончательно подтвердилось, что это именно тот самый мемориальный дом, в котором жил Александр Сергеевич Пушкин. До 1980-х годов полной уверенности в этом не было.
ОБ ЭКСПОЗИЦИИ
Тамара Кезина:
Работа по созданию экспозиции оказалась крайне непростой. Ведь экспозиция формируется из экспонатов, а фонды Болдинского музея были не настолько богаты, чтобы полностью обеспечить все нужды. Пришлось активно заниматься поиском недостающих предметов. Нужно было найти подходящую мебель, предметы быта пушкинской эпохи, что само по себе является сложной задачей.
Дело в том, что вещи середины XIX века найти гораздо проще — они более доступны и, как правило, дешевле. Однако предметы пушкинского времени (первая половина XIX века) — это уже совсем другая история. Они гораздо более редкие, а потому и дорогие. Коллекционеры, у которых такие вещи есть, расстаются с ними крайне неохотно.
Мы обращались к коллекционерам, посещали антикварные магазины, а также искали предметы у потомков дворянских фамилий. Особенно в таких городах, как Петербург и Москва, можно было найти квартиры, где сохранились старинные вещи, перешедшие владельцам по наследству от предков. Там иногда удавалось приобрести подходящую мебель или другие предметы быта пушкинской эпохи. Отдельная история была связана с изготовлением копий пушкинских рукописей.
Новый вариант экспозиции предполагал активное использование рукописей, хотя, вообще говоря, музейные работники часто считают, что рукописи — не самый выигрышный экспонат. Ведь, на первый взгляд, это просто «бумажка». Однако это утверждение уж точно не относится к пушкинским рукописям. Они настолько выразительны, что о них такого не скажешь. Впечатление, которое они производят, можно сравнить с воздействием произведений искусства.
Болдино — это, прежде всего, место, связанное с феноменом Болдинской осени, невероятным творческим подъемом, который Пушкин пережил здесь. За этот период он создал десятки произведений — около 60 в общей сложности. Именно поэтому обилие рукописей в экспозиции должно было визуально передать тот мощный творческий поток, который захлестнул поэта в Болдине.
Действительно, в контексте экспозиции было важно показать множество рукописей, чтобы передать масштаб творчества Пушкина. Однако надо понимать, что подлинники пушкинских рукописей никогда не выставляются в музеях. Вы не увидите оригиналов ни в Московском музее Пушкина, ни в Петербургском, ни в каком-либо другом. Все подлинники хранятся в специальных архивах, главным образом в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) в Санкт-Петербурге.
Долгое время в музеях использовалась особая технология создания копий пушкинских рукописей. Бралась архивная бумага, соответствующая по качеству и виду бумаге пушкинской эпохи, и покрывалась фотоэмульсией. Таким образом изготавливались фотоотпечатки рукописей, которые и экспонировались в музеях. Все бы хорошо, но твердая с глянцевым отсветом поверхность листов лишала их ощущения настоящих, «живых» рукописей.
Свою методику создания рукописных копий разработал петербургский копиист Юрий Алеханов, который и был привлечен к копированию рукописей для Болдина художником Татьяной Николаевной Воронихиной – именно с ней мы работали над подготовкой новой экспозиции. Эта методика позволяла Алеханову вручную воспроизводить рукописи Пушкина с высокой точностью, и в то же время копии оставляли полное впечатление настоящих рукописей. Его работа была кропотливой и поэтапной.
Юрий Алеханов начинал процесс с фотографирования оригиналов рукописей, используя высококачественную аппаратуру, чтобы получить максимально четкие и детальные снимки. Правда, прежде нам надо было добиться разрешения на допуск в святая святых – комнату-сейф, где хранились рукописи в Пушкинском Доме. Благодаря этому мне посчастливилось увидеть подлинные рукописи Пушкина, что оставило неизгладимое впечатление на всю жизнь.
Юрий Алеханов уделял особое внимание деталям, которые могли быть утрачены на черно-белых фотографиях. В своих описаниях он фиксировал цветовые оттенки, текстуру и другие нюансы, которые невозможно было передать снимками. Качество бумаги также играло важную роль, так как оно должно было соответствовать оригиналу пушкинской эпохи.
После того как фотографии были сделаны и описания составлены, начинался поиск подходящей архивной бумаги, соответствующей тому времени.
На найденной архивной бумаге пушкинской эпохи Юрий Алеханов вручную создавал копии рукописей. Для этого он использовал специальное приспособление, которое позволяло работать с листами на просвет. С помощью фотокопии, сделанной им самим, он вручную переводил каждый лист, используя набор гусиных и стальных перьев и «сочиненные» им самим чернила разных оттенков.
Мы первыми решили отказаться от традиционного подхода, при котором в музеях экспонировались только отдельные листы рукописей. До этого повсеместно использовался именно такой метод, независимо от того, как на самом деле выглядели пушкинские рукописи. Однако Пушкин часто писал не на отдельных листах, а в тетрадях или альбомах, которые также считаются рабочими тетрадями. Многие из этих тетрадей сохранились, и мы посчитали важным показать их в том виде, в котором они существовали изначально, чтобы передать подлинный характер творческого процесса поэта.
Около двух лет нам потребовалось только на то, чтобы сделать все эти копии. Это к тому, сколько времени требуется, чтобы подготовить новую экспозицию.
Экспозиция содержала в себе мемориально-бытовой и литературный разделы. А поскольку уже были получены подтверждения мемориальности дома, для нас было особенно важно добиться достоверности воссоздаваемых интерьеров. Мы учитывали реальную ситуацию, существовавшую на время приездов поэта. Известно, что отец Пушкина, Сергей Львович, был человеком довольно беспечным, и его мало волновало состояние дома в Болдине. Он приезжал туда редко, и дом часто пустовал, оставаясь неухоженным и несколько заброшенным. Когда Пушкин приехал в Болдино в 1830 году, ему не было смысла занимать весь дом — это потребовало бы топить печи в каждой комнате, что было нецелесообразно.
Скорее всего, он занимал всего пару комнат, как это бывало, например, в Михайловском. Мебели в доме было не так много. Где же она могла стоять? В так называемой парадной анфиладе, которая включала прихожую, зальце (оно же столовая) и следующую комнату. Вслед за зальцем в подобных домах обычно находилась гостиная. Однако Пушкину гостиная была не нужна — ему требовался кабинет, место для работы. Вероятно, здесь он и устроил себе кабинет - в зальце обедал, а в кабинете работал и тут же спал, а, проснувшись, снова брался за перо.
Вы знаете, что Пушкин вообще любил писать, лежа в постели? Наверное, это привычка с лицейских времен. Ну, это, собственно, только мое личное предположение, но, мне кажется, очень вероятное. Ведь известно, что в комнатах, где жили лицеисты, атмосфера была вполне спартанская, температура зимой едва достигала 13-14 градусов, и можно представить, как, вернувшись после занятий в свою «келью», хотелось поскорее нырнуть под одеяло. Так, укутавшись и пристроив на коленях тетрадь, он, должно быть, и писал свои первые лицейские стихотворения.
Самым интересным в нашей работе стало создание в 1988 году уголка кабинета Пушкина, воссозданного по его собственному рисунку. Нам в этом смысле очень повезло, ведь Пушкин в ноябре 1830 года сделал в Болдине зарисовку своего кабинета. Очевидно, что рисунок был сделан с натуры: на нем изображена книжная полка (или то, что мы назвали бы стеллажом), под ней — стол, покрытый скатертью, на столе разбросаны книги, бумаги и какой-то предмет, напоминающий коробку. Также на рисунке видна любопытная деталь — скульптура, вероятно, античный бюст.
Когда в 1980-х годах мы готовили новую экспозицию, решили воссоздать этот фрагмент интерьера. Для этого даже привлекли специалистов-компьютерщиков, которые провели расчеты, чтобы определить реальные размеры изображенных предметов, их расположение относительно друг друга и расстояние, с которого был сделан рисунок. Эти расчеты подтвердили, что кабинет действительно находился в этой комнате, так как только ее размеры позволяли сделать рисунок с такого ракурса.
Интерьер кабинета стал ценен своей документальностью. И дело не только в том, что был воссоздан этот уголок комнаты по рисунку самого поэта. Это касалось и всего интерьера в целом. Мы изучали сохранившиеся болдинские описи и подбирали вещи, которые в них упоминались. В отличие от старой экспозиции, где был представлен типичный кабинет, не имевший прямого отношения к Болдину, здесь мы создали кабинет, основанный на конкретных исторических данных. Мы искали мебель и предметы, аналогичные тем, что числились в описях, и все это сделало экспозицию максимально достоверной.
Работа по созданию экспозиции оказалась крайне непростой. Ведь экспозиция формируется из экспонатов, а фонды Болдинского музея были не настолько богаты, чтобы полностью обеспечить все нужды. Пришлось активно заниматься поиском недостающих предметов. Нужно было найти подходящую мебель, предметы быта пушкинской эпохи, что само по себе является сложной задачей.
Дело в том, что вещи середины XIX века найти гораздо проще — они более доступны и, как правило, дешевле. Однако предметы пушкинского времени (первая половина XIX века) — это уже совсем другая история. Они гораздо более редкие, а потому и дорогие. Коллекционеры, у которых такие вещи есть, расстаются с ними крайне неохотно.
Мы обращались к коллекционерам, посещали антикварные магазины, а также искали предметы у потомков дворянских фамилий. Особенно в таких городах, как Петербург и Москва, можно было найти квартиры, где сохранились старинные вещи, перешедшие владельцам по наследству от предков. Там иногда удавалось приобрести подходящую мебель или другие предметы быта пушкинской эпохи. Отдельная история была связана с изготовлением копий пушкинских рукописей.
Новый вариант экспозиции предполагал активное использование рукописей, хотя, вообще говоря, музейные работники часто считают, что рукописи — не самый выигрышный экспонат. Ведь, на первый взгляд, это просто «бумажка». Однако это утверждение уж точно не относится к пушкинским рукописям. Они настолько выразительны, что о них такого не скажешь. Впечатление, которое они производят, можно сравнить с воздействием произведений искусства.
Болдино — это, прежде всего, место, связанное с феноменом Болдинской осени, невероятным творческим подъемом, который Пушкин пережил здесь. За этот период он создал десятки произведений — около 60 в общей сложности. Именно поэтому обилие рукописей в экспозиции должно было визуально передать тот мощный творческий поток, который захлестнул поэта в Болдине.
Действительно, в контексте экспозиции было важно показать множество рукописей, чтобы передать масштаб творчества Пушкина. Однако надо понимать, что подлинники пушкинских рукописей никогда не выставляются в музеях. Вы не увидите оригиналов ни в Московском музее Пушкина, ни в Петербургском, ни в каком-либо другом. Все подлинники хранятся в специальных архивах, главным образом в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) в Санкт-Петербурге.
Долгое время в музеях использовалась особая технология создания копий пушкинских рукописей. Бралась архивная бумага, соответствующая по качеству и виду бумаге пушкинской эпохи, и покрывалась фотоэмульсией. Таким образом изготавливались фотоотпечатки рукописей, которые и экспонировались в музеях. Все бы хорошо, но твердая с глянцевым отсветом поверхность листов лишала их ощущения настоящих, «живых» рукописей.
Свою методику создания рукописных копий разработал петербургский копиист Юрий Алеханов, который и был привлечен к копированию рукописей для Болдина художником Татьяной Николаевной Воронихиной – именно с ней мы работали над подготовкой новой экспозиции. Эта методика позволяла Алеханову вручную воспроизводить рукописи Пушкина с высокой точностью, и в то же время копии оставляли полное впечатление настоящих рукописей. Его работа была кропотливой и поэтапной.
Юрий Алеханов начинал процесс с фотографирования оригиналов рукописей, используя высококачественную аппаратуру, чтобы получить максимально четкие и детальные снимки. Правда, прежде нам надо было добиться разрешения на допуск в святая святых – комнату-сейф, где хранились рукописи в Пушкинском Доме. Благодаря этому мне посчастливилось увидеть подлинные рукописи Пушкина, что оставило неизгладимое впечатление на всю жизнь.
Юрий Алеханов уделял особое внимание деталям, которые могли быть утрачены на черно-белых фотографиях. В своих описаниях он фиксировал цветовые оттенки, текстуру и другие нюансы, которые невозможно было передать снимками. Качество бумаги также играло важную роль, так как оно должно было соответствовать оригиналу пушкинской эпохи.
После того как фотографии были сделаны и описания составлены, начинался поиск подходящей архивной бумаги, соответствующей тому времени.
На найденной архивной бумаге пушкинской эпохи Юрий Алеханов вручную создавал копии рукописей. Для этого он использовал специальное приспособление, которое позволяло работать с листами на просвет. С помощью фотокопии, сделанной им самим, он вручную переводил каждый лист, используя набор гусиных и стальных перьев и «сочиненные» им самим чернила разных оттенков.
Мы первыми решили отказаться от традиционного подхода, при котором в музеях экспонировались только отдельные листы рукописей. До этого повсеместно использовался именно такой метод, независимо от того, как на самом деле выглядели пушкинские рукописи. Однако Пушкин часто писал не на отдельных листах, а в тетрадях или альбомах, которые также считаются рабочими тетрадями. Многие из этих тетрадей сохранились, и мы посчитали важным показать их в том виде, в котором они существовали изначально, чтобы передать подлинный характер творческого процесса поэта.
Около двух лет нам потребовалось только на то, чтобы сделать все эти копии. Это к тому, сколько времени требуется, чтобы подготовить новую экспозицию.
Экспозиция содержала в себе мемориально-бытовой и литературный разделы. А поскольку уже были получены подтверждения мемориальности дома, для нас было особенно важно добиться достоверности воссоздаваемых интерьеров. Мы учитывали реальную ситуацию, существовавшую на время приездов поэта. Известно, что отец Пушкина, Сергей Львович, был человеком довольно беспечным, и его мало волновало состояние дома в Болдине. Он приезжал туда редко, и дом часто пустовал, оставаясь неухоженным и несколько заброшенным. Когда Пушкин приехал в Болдино в 1830 году, ему не было смысла занимать весь дом — это потребовало бы топить печи в каждой комнате, что было нецелесообразно.
Скорее всего, он занимал всего пару комнат, как это бывало, например, в Михайловском. Мебели в доме было не так много. Где же она могла стоять? В так называемой парадной анфиладе, которая включала прихожую, зальце (оно же столовая) и следующую комнату. Вслед за зальцем в подобных домах обычно находилась гостиная. Однако Пушкину гостиная была не нужна — ему требовался кабинет, место для работы. Вероятно, здесь он и устроил себе кабинет - в зальце обедал, а в кабинете работал и тут же спал, а, проснувшись, снова брался за перо.
Вы знаете, что Пушкин вообще любил писать, лежа в постели? Наверное, это привычка с лицейских времен. Ну, это, собственно, только мое личное предположение, но, мне кажется, очень вероятное. Ведь известно, что в комнатах, где жили лицеисты, атмосфера была вполне спартанская, температура зимой едва достигала 13-14 градусов, и можно представить, как, вернувшись после занятий в свою «келью», хотелось поскорее нырнуть под одеяло. Так, укутавшись и пристроив на коленях тетрадь, он, должно быть, и писал свои первые лицейские стихотворения.
Самым интересным в нашей работе стало создание в 1988 году уголка кабинета Пушкина, воссозданного по его собственному рисунку. Нам в этом смысле очень повезло, ведь Пушкин в ноябре 1830 года сделал в Болдине зарисовку своего кабинета. Очевидно, что рисунок был сделан с натуры: на нем изображена книжная полка (или то, что мы назвали бы стеллажом), под ней — стол, покрытый скатертью, на столе разбросаны книги, бумаги и какой-то предмет, напоминающий коробку. Также на рисунке видна любопытная деталь — скульптура, вероятно, античный бюст.
Когда в 1980-х годах мы готовили новую экспозицию, решили воссоздать этот фрагмент интерьера. Для этого даже привлекли специалистов-компьютерщиков, которые провели расчеты, чтобы определить реальные размеры изображенных предметов, их расположение относительно друг друга и расстояние, с которого был сделан рисунок. Эти расчеты подтвердили, что кабинет действительно находился в этой комнате, так как только ее размеры позволяли сделать рисунок с такого ракурса.
Интерьер кабинета стал ценен своей документальностью. И дело не только в том, что был воссоздан этот уголок комнаты по рисунку самого поэта. Это касалось и всего интерьера в целом. Мы изучали сохранившиеся болдинские описи и подбирали вещи, которые в них упоминались. В отличие от старой экспозиции, где был представлен типичный кабинет, не имевший прямого отношения к Болдину, здесь мы создали кабинет, основанный на конкретных исторических данных. Мы искали мебель и предметы, аналогичные тем, что числились в описях, и все это сделало экспозицию максимально достоверной.
Болдинские 90-е
Тамара Кезина:
80-е и 90-е годы были тесно связаны между собой, так как все, что начиналось в усадьбе в 80-е, завершалось в 90-е. Это был единый процесс, направленный на подготовку музея к 200-летию со дня рождения Пушкина, которое отмечалось в 1999 году. К этой дате предстояло завершить все реставрационные работы.
Уже в начале 90-х завершилось восстановление усадебных построек. Затем рядом с усадьбой были восстановлены два дома так называемого «попова порядка» – там когда-то жили служители церкви. Сохранились фотографии этих домов, что позволило воссоздать их с исторической точностью. В этих домиках в 1997-98 гг мы открыли музей пушкинских сказок. Ведь именно в Болдине поэт написал почти все свои сказки. И где, как не здесь, должен был появиться такой музей?
В отреставрированных усадебных постройках тоже были открыты экспозиции – они посвящались бытовой и этнографической тематике: местной крестьянской культуре, промыслам и традициям.
Однако 90-е годы были также временем тяжелого экономического кризиса. Музей сталкивался с хроническим отсутствием финансирования: зарплаты сотрудникам не выплачивались, а на развитие музея годами не выделялось средств. Несмотря на это, работа продолжалась. Например, музей сказок создавался практически без денег. В те годы в музее работало не более десяти человек научных сотрудников и экскурсоводов, хотя масштабы заповедника были уже не те, что прежде. Но средств на содержание большего числа сотрудников не было.
Посещаемость музеев в те годы резко упала из-за экономических трудностей. Основными посетителями стали школьники, которых привозили в рамках образовательных программ. Взрослых посетителей было значительно меньше. Еще и поэтому было решено создать музей сказок — детский музей, который мог привлечь юных посетителей.
Параллельно с этим велась работа по реставрации парка. Это была масштабная задача, так как парк требует постоянного ухода. Проводились ландшафтные работы: вырубка зарослей, которые нарушали историческую планировку, и посадка новых деревьев и кустарников взамен утраченных. Парк – это не лес, он имеет четкую структуру, и ее восстановление было важной частью работы по сохранению усадебного комплекса.
90-е годы были также периодом активной реставрации церкви – самого сложного и дорогостоящего объекта в усадебном комплексе. Ее восстановление требовало значительно больше средств, чем все остальные проекты, но денег катастрофически не хватало.
Работа шла медленно и с большими трудностями. Нашему директору часто приходилось идти на риск: где-то договариваться о взаимозачетах, где-то брать материалы в долг. Это было крайне напряженно, так как в любой момент все могло обернуться большими неприятностями. Многие сомневались, что церковь вообще удастся восстановить, учитывая масштаб задачи и отсутствие финансирования.
Церковь, которую вы, наверное, видели, — это не маленькая церквушка, а значительное сооружение, построенное дедом Пушкина, Львом Александровичем, в конце XVIII века. Ее восстановление стало символом возрождения всего усадебного комплекса, несмотря на все трудности и скептицизм окружающих.
И нам, конечно, хотелось эту церковь восстановить. И всем болдинцам хотелось. В каждой избе у них висела фотография или какой-нибудь не очень умелый рисунок этой старой церкви. Они гордились тем, какой это был красивый и величественный храм. Работа шла постепенно, год за годом. Сначала провели обследование и укрепление фундаментов, что было крайне важно, ведь такая массивная постройка, как церковь, требовала надежной основы. Без уверенности в прочности фундаментов продолжать работы было невозможно.
Затем начали возводить стены. Процесс шел медленно, но неуклонно. Белый камень, необходимый для реставрации, снова, как когда-то, стали привозить из-под Москвы и, кажется, из-под Владимира. Это был тот же материал, который использовался при первоначальном строительстве церкви в конце XVIII века.
Огромная была работа, а основную сумму на церковь выделили уже только за год, где-то даже меньше, чем за год до 1999 года. Представляете? И вот тут, конечно, начались работы в авральном темпе, но, тем не менее, к юбилею удалось успеть. Да, и, кроме церкви, к этому же дню была поставлена памятная часовня на месте, где когда-то стояла первая болдинская церковь – построена она была еще в начале XVII века далекими предками поэта, получившими Болдино в вотчинное владение. Чтобы увидеть эту часовню, надо пересечь парк – она стоит там, на пригорке, откуда открывается прекрасный вид на болдинские дали.
В 1999 году, при подготовке к двухсотлетнему юбилею Пушкина, встал вопрос и об обновлении главной экспозиции. Но мы пошли по пути ее частичного обновления. В целом же концепция оставалась прежней.
Изменения коснулись второй части экспозиции – литературной, а вот мемориальная часть, то есть комнаты, где жил Пушкин, где обстановка была воссоздана не только в духе его времени, но и на документальной основе, осталась без каких-либо существенных изменений.
Нетронутым мы оставили интерьер кабинета Пушкина. Лишь в деталях изменения коснулись зальца (столовой). Зато нам удалось провести реставрацию тех предметов мебели, которые нуждались в этом. Литературная часть экспозиции была обновлена. При этом тематически, как и прежде, она посвящалась болдинскому периоду жизни и творчества Пушкина, его приездам в Болдино и тем произведениям, которые он здесь создал.
Таким образом, к 200-летию Пушкина болдинский музей-заповедник пришел, полностью завершив восстановление усадебного комплекса, с новыми и частично обновленными экспозициями. И одним из главных свершений стало, конечно же, восстановление в Болдине родового пушкинского храма- церкви Успения.
80-е и 90-е годы были тесно связаны между собой, так как все, что начиналось в усадьбе в 80-е, завершалось в 90-е. Это был единый процесс, направленный на подготовку музея к 200-летию со дня рождения Пушкина, которое отмечалось в 1999 году. К этой дате предстояло завершить все реставрационные работы.
Уже в начале 90-х завершилось восстановление усадебных построек. Затем рядом с усадьбой были восстановлены два дома так называемого «попова порядка» – там когда-то жили служители церкви. Сохранились фотографии этих домов, что позволило воссоздать их с исторической точностью. В этих домиках в 1997-98 гг мы открыли музей пушкинских сказок. Ведь именно в Болдине поэт написал почти все свои сказки. И где, как не здесь, должен был появиться такой музей?
В отреставрированных усадебных постройках тоже были открыты экспозиции – они посвящались бытовой и этнографической тематике: местной крестьянской культуре, промыслам и традициям.
Однако 90-е годы были также временем тяжелого экономического кризиса. Музей сталкивался с хроническим отсутствием финансирования: зарплаты сотрудникам не выплачивались, а на развитие музея годами не выделялось средств. Несмотря на это, работа продолжалась. Например, музей сказок создавался практически без денег. В те годы в музее работало не более десяти человек научных сотрудников и экскурсоводов, хотя масштабы заповедника были уже не те, что прежде. Но средств на содержание большего числа сотрудников не было.
Посещаемость музеев в те годы резко упала из-за экономических трудностей. Основными посетителями стали школьники, которых привозили в рамках образовательных программ. Взрослых посетителей было значительно меньше. Еще и поэтому было решено создать музей сказок — детский музей, который мог привлечь юных посетителей.
Параллельно с этим велась работа по реставрации парка. Это была масштабная задача, так как парк требует постоянного ухода. Проводились ландшафтные работы: вырубка зарослей, которые нарушали историческую планировку, и посадка новых деревьев и кустарников взамен утраченных. Парк – это не лес, он имеет четкую структуру, и ее восстановление было важной частью работы по сохранению усадебного комплекса.
90-е годы были также периодом активной реставрации церкви – самого сложного и дорогостоящего объекта в усадебном комплексе. Ее восстановление требовало значительно больше средств, чем все остальные проекты, но денег катастрофически не хватало.
Работа шла медленно и с большими трудностями. Нашему директору часто приходилось идти на риск: где-то договариваться о взаимозачетах, где-то брать материалы в долг. Это было крайне напряженно, так как в любой момент все могло обернуться большими неприятностями. Многие сомневались, что церковь вообще удастся восстановить, учитывая масштаб задачи и отсутствие финансирования.
Церковь, которую вы, наверное, видели, — это не маленькая церквушка, а значительное сооружение, построенное дедом Пушкина, Львом Александровичем, в конце XVIII века. Ее восстановление стало символом возрождения всего усадебного комплекса, несмотря на все трудности и скептицизм окружающих.
И нам, конечно, хотелось эту церковь восстановить. И всем болдинцам хотелось. В каждой избе у них висела фотография или какой-нибудь не очень умелый рисунок этой старой церкви. Они гордились тем, какой это был красивый и величественный храм. Работа шла постепенно, год за годом. Сначала провели обследование и укрепление фундаментов, что было крайне важно, ведь такая массивная постройка, как церковь, требовала надежной основы. Без уверенности в прочности фундаментов продолжать работы было невозможно.
Затем начали возводить стены. Процесс шел медленно, но неуклонно. Белый камень, необходимый для реставрации, снова, как когда-то, стали привозить из-под Москвы и, кажется, из-под Владимира. Это был тот же материал, который использовался при первоначальном строительстве церкви в конце XVIII века.
Огромная была работа, а основную сумму на церковь выделили уже только за год, где-то даже меньше, чем за год до 1999 года. Представляете? И вот тут, конечно, начались работы в авральном темпе, но, тем не менее, к юбилею удалось успеть. Да, и, кроме церкви, к этому же дню была поставлена памятная часовня на месте, где когда-то стояла первая болдинская церковь – построена она была еще в начале XVII века далекими предками поэта, получившими Болдино в вотчинное владение. Чтобы увидеть эту часовню, надо пересечь парк – она стоит там, на пригорке, откуда открывается прекрасный вид на болдинские дали.
В 1999 году, при подготовке к двухсотлетнему юбилею Пушкина, встал вопрос и об обновлении главной экспозиции. Но мы пошли по пути ее частичного обновления. В целом же концепция оставалась прежней.
Изменения коснулись второй части экспозиции – литературной, а вот мемориальная часть, то есть комнаты, где жил Пушкин, где обстановка была воссоздана не только в духе его времени, но и на документальной основе, осталась без каких-либо существенных изменений.
Нетронутым мы оставили интерьер кабинета Пушкина. Лишь в деталях изменения коснулись зальца (столовой). Зато нам удалось провести реставрацию тех предметов мебели, которые нуждались в этом. Литературная часть экспозиции была обновлена. При этом тематически, как и прежде, она посвящалась болдинскому периоду жизни и творчества Пушкина, его приездам в Болдино и тем произведениям, которые он здесь создал.
Таким образом, к 200-летию Пушкина болдинский музей-заповедник пришел, полностью завершив восстановление усадебного комплекса, с новыми и частично обновленными экспозициями. И одним из главных свершений стало, конечно же, восстановление в Болдине родового пушкинского храма- церкви Успения.
1999 год: 200-летний юбилей А.С. Пушкина
Тамара Кезина:
Я прекрасно помню тот день. С утра была чудесная погода, тихая и солнечная. Церковь, отражаясь в воде приусадебного пруда, выглядела торжественно и придавала ощущение праздничности всему вокруг. А вся усадьба покоилась в какой-то особенной первозданной чистоте, словно заново родилась.
Конечно, день предстоял трудный. Мы готовились принимать экскурсантов, а вокруг усадьбы затевался небывалый праздник. Однако сама усадьба оставалась местом неприкосновенным, и я считаю, что это было правильно. Здесь нужно было сохранить ту самую усадебную тишину, которая создавала особую атмосферу.
Пока толпы посетителей еще не заполнили ближние и дальние уголки усадьбы, мы успели пройтись, почти пробежаться, вокруг дома, вдоль прудов. В беседке сидел юноша в гусарском мундире, напевая под гитару романсы на стихи Дениса Давыдова. Неподалеку прогуливались барышни в нарядах старинного кроя. Это не нарушало атмосферы, а, наоборот, добавляло ей очарования.
Но постепенно за воротами парка начиналось настоящее столпотворение. Тысячи людей собрались вокруг усадьбы. Там проходили костюмированные представления, и даже воздушный шар с профилем Пушкина поднялся в небо. Вокруг царили песни, танцы и веселье. Но – удивительно – даже шум праздника, доносившийся оттуда, не мог нарушить ощущения, что здесь, в самой усадьбе, время течет по своим законам, что здесь по-прежнему продолжается пушкинский век. Люди шли непрерывным потоком, и экскурсии проводились практически без перерыва. Мы шутили, что это напоминало очередь в Мавзолей – успевали лишь давать короткие пояснения, чтобы посетители понимали, что к чему.
Мы очень переживали, что праздник может быть омрачен нежелательными происшествиями, опасались стычек в очередях на экскурсии, и еще, признаться, появления нетрезвых посетителей. Но ничего подобного не случилось. По лицам людей чувствовалось, что все осознают торжественность момента, его высокий и радостный смысл. Хотя к концу дня мы были невероятно уставшими, воспоминания об этом празднике остались самыми светлыми.
То, что было в 99-м году, можно назвать одним из самых массовых мероприятий за всю историю заповедника, хотя каждый год в день рождения Пушкина проводились и проводятся пушкинские праздники.
Гостями таких праздников всегда бывают поэты, писатели, журналисты. Но в тот юбилейный праздник нам, сотрудникам музея, нечего было и думать о том, чтобы попасть на встречу с писателями и поэтами, которая, как всегда, проходила в заповедной роще Лучинник в окрестностях Болдина. Поэтому сейчас даже затрудняюсь назвать литературные имена из тех, кто мог быть тогда на празднике в Болдине – боюсь ошибиться, для этого надо было бы посмотреть хронику пушкинских праздников.
Особенно запомнился вечер того дня, когда праздник переместился на площадь перед административным зданием музея. Там установили сцену, где прошло красивое костюмированное представление, подготовленное Авторским центром художественных ремесел для детей и юношества из Дзержинска (он существует и сейчас).
Кстати, именно с этим центром мы создавали музей сказок. У них были замечательные мастерские: кукольная, золотного шитья, батика, а также мастерская костюма. При центре даже существовал театр моды. Для вечернего представления они сшили великолепные костюмы, стилизованные под пушкинскую эпоху. Это было действительно красиво и атмосферно.
Завершился вечер салютом, или, точнее, фейерверком. Обычно я не люблю салюты, но в тот раз он получился очень красивым. Фейерверки, кстати, вполне соответствовали традициям не только пушкинского времени, но и более раннего, XVIII века, когда такие зрелища были особенно популярны.
В своей книжке я пишу об этом дне, и мне особенно запомнился момент, когда основной праздник уже закончился. Кажется, в тот день из Нижнего Новгорода пустили дополнительные автобусы, чтобы люди могли добраться до Болдина. Многие приезжали из Нижнего и других городов — кто на автобусах, кто на попутках. Машин тогда было мало, поэтому автобусы стали основным способом добраться до усадьбы.
Я помню, как пошла провожать свою знакомую из Дзержинска до автостанции. Один автобус уже отбыл, а следующий еще не пришел, и было неизвестно, приедет ли он вообще. Но народ, собравшийся у автостанции, был в приподнятом настроении. Все стояли группами, смеялись, шутили, и никто особо не переживал, уедет он сегодня или нет. Настроение у всех было какое-то просветленное, радостное.
Рядом с нами стояла группа студентов. Они что-то оживленно обсуждали, вспоминали стихи Пушкина. Один из них вдруг сказал: «Ой, а ведь у меня завтра экзамен! Я даже не собирался ехать, но утром проснулся и подумал: как же так, сегодня 6 июня! Если я не поеду, то никогда себе этого не прощу. Вот я сел и поехал. А что буду делать завтра — не знаю».
Так вот они ехали, вдохновленные стихами Пушкина. Это было не организованное мероприятие, а стихийное желание людей приехать и почувствовать себя частью этого праздника. Мы, конечно, не могли всех принять, но люди все равно ехали, приходили в усадьбу, а дальше каждый шел туда, куда хотел, и делал то, что считал нужным.
Я прекрасно помню тот день. С утра была чудесная погода, тихая и солнечная. Церковь, отражаясь в воде приусадебного пруда, выглядела торжественно и придавала ощущение праздничности всему вокруг. А вся усадьба покоилась в какой-то особенной первозданной чистоте, словно заново родилась.
Конечно, день предстоял трудный. Мы готовились принимать экскурсантов, а вокруг усадьбы затевался небывалый праздник. Однако сама усадьба оставалась местом неприкосновенным, и я считаю, что это было правильно. Здесь нужно было сохранить ту самую усадебную тишину, которая создавала особую атмосферу.
Пока толпы посетителей еще не заполнили ближние и дальние уголки усадьбы, мы успели пройтись, почти пробежаться, вокруг дома, вдоль прудов. В беседке сидел юноша в гусарском мундире, напевая под гитару романсы на стихи Дениса Давыдова. Неподалеку прогуливались барышни в нарядах старинного кроя. Это не нарушало атмосферы, а, наоборот, добавляло ей очарования.
Но постепенно за воротами парка начиналось настоящее столпотворение. Тысячи людей собрались вокруг усадьбы. Там проходили костюмированные представления, и даже воздушный шар с профилем Пушкина поднялся в небо. Вокруг царили песни, танцы и веселье. Но – удивительно – даже шум праздника, доносившийся оттуда, не мог нарушить ощущения, что здесь, в самой усадьбе, время течет по своим законам, что здесь по-прежнему продолжается пушкинский век. Люди шли непрерывным потоком, и экскурсии проводились практически без перерыва. Мы шутили, что это напоминало очередь в Мавзолей – успевали лишь давать короткие пояснения, чтобы посетители понимали, что к чему.
Мы очень переживали, что праздник может быть омрачен нежелательными происшествиями, опасались стычек в очередях на экскурсии, и еще, признаться, появления нетрезвых посетителей. Но ничего подобного не случилось. По лицам людей чувствовалось, что все осознают торжественность момента, его высокий и радостный смысл. Хотя к концу дня мы были невероятно уставшими, воспоминания об этом празднике остались самыми светлыми.
То, что было в 99-м году, можно назвать одним из самых массовых мероприятий за всю историю заповедника, хотя каждый год в день рождения Пушкина проводились и проводятся пушкинские праздники.
Гостями таких праздников всегда бывают поэты, писатели, журналисты. Но в тот юбилейный праздник нам, сотрудникам музея, нечего было и думать о том, чтобы попасть на встречу с писателями и поэтами, которая, как всегда, проходила в заповедной роще Лучинник в окрестностях Болдина. Поэтому сейчас даже затрудняюсь назвать литературные имена из тех, кто мог быть тогда на празднике в Болдине – боюсь ошибиться, для этого надо было бы посмотреть хронику пушкинских праздников.
Особенно запомнился вечер того дня, когда праздник переместился на площадь перед административным зданием музея. Там установили сцену, где прошло красивое костюмированное представление, подготовленное Авторским центром художественных ремесел для детей и юношества из Дзержинска (он существует и сейчас).
Кстати, именно с этим центром мы создавали музей сказок. У них были замечательные мастерские: кукольная, золотного шитья, батика, а также мастерская костюма. При центре даже существовал театр моды. Для вечернего представления они сшили великолепные костюмы, стилизованные под пушкинскую эпоху. Это было действительно красиво и атмосферно.
Завершился вечер салютом, или, точнее, фейерверком. Обычно я не люблю салюты, но в тот раз он получился очень красивым. Фейерверки, кстати, вполне соответствовали традициям не только пушкинского времени, но и более раннего, XVIII века, когда такие зрелища были особенно популярны.
В своей книжке я пишу об этом дне, и мне особенно запомнился момент, когда основной праздник уже закончился. Кажется, в тот день из Нижнего Новгорода пустили дополнительные автобусы, чтобы люди могли добраться до Болдина. Многие приезжали из Нижнего и других городов — кто на автобусах, кто на попутках. Машин тогда было мало, поэтому автобусы стали основным способом добраться до усадьбы.
Я помню, как пошла провожать свою знакомую из Дзержинска до автостанции. Один автобус уже отбыл, а следующий еще не пришел, и было неизвестно, приедет ли он вообще. Но народ, собравшийся у автостанции, был в приподнятом настроении. Все стояли группами, смеялись, шутили, и никто особо не переживал, уедет он сегодня или нет. Настроение у всех было какое-то просветленное, радостное.
Рядом с нами стояла группа студентов. Они что-то оживленно обсуждали, вспоминали стихи Пушкина. Один из них вдруг сказал: «Ой, а ведь у меня завтра экзамен! Я даже не собирался ехать, но утром проснулся и подумал: как же так, сегодня 6 июня! Если я не поеду, то никогда себе этого не прощу. Вот я сел и поехал. А что буду делать завтра — не знаю».
Так вот они ехали, вдохновленные стихами Пушкина. Это было не организованное мероприятие, а стихийное желание людей приехать и почувствовать себя частью этого праздника. Мы, конечно, не могли всех принять, но люди все равно ехали, приходили в усадьбу, а дальше каждый шел туда, куда хотел, и делал то, что считал нужным.
Сейчас Пушкина воспринимают все так же?
Тамара Кезина:
С болью чувствую, что Пушкин уже не значит для новых поколений столько, сколько он значил для нас. Хотя, конечно, всегда и во всем есть исключения.
Пока я работала в музее, по крайней мере с начала 2000-х с каждым годом все острее ощущалось, что интерес к Пушкину угасает. Люди, приходящие в музей, уже не воспринимают его творчество так живо, как раньше. В их глазах нет того прежнего восхищения, интереса. Теперь их больше занимают совсем другие вещи.
В последние годы моей работы в музее я уже редко проводила экскурсии, занимаясь в основном методической работой. Я проводила занятия для сотрудников, и однажды они попросили меня: «Тамара Николаевна, проведите для нас специальные занятия по доходам Пушкина, по материальной стороне его жизни. Сейчас посетители чаще всего спрашивают именно об этом — не о творчестве, не о встречах, не о его образе жизни, а о том, сколько он получал с Болдина, какие у него были доходы, сколько он зарабатывал на издании своих произведений».
Кроме того, людей теперь очень интересует личная жизнь Пушкина: его дети, жена, любимые женщины. Эти вопросы стали главными, что, конечно, сильно отличается от того, что волновало посетителей раньше. Хотя, конечно, я понимаю, что психология людей меняется. Сейчас, например, виртуальная реальность уже в большой степени замещает реальность как таковую. Многие как будто разучились видеть и воспринимать окружающий мир во всех его красках. У меня такое ощущение, что люди вообще становятся эмоционально беднее. Боятся глубоких чувств, как, впрочем, и глубоких мыслей. Поэтому, наверное, и Пушкин от них отдаляется.
80-е годы были все-таки временем светлым в смысле мироощущения людей, веры в какое-то светлое будущее. О первых годах Перестройки сейчас принято отзываться почти исключительно негативно. На самом деле все не так однозначно. Это было время, когда реальное содержание обрели для людей понятия свободы, человеческого достоинства. Когда заговорили о том, что во главу угла во всем должны быть поставлены начала гуманности и духовности. Это было время, когда начали издаваться писатели, историки и философы прошлого и настоящего, не издававшиеся ранее. Что касается пушкиноведения, появилось больше свободы в смысле доступности отдельных источников, в самих подходах к исследованию пушкинских текстов и т.д. Тиражи пушкинских произведений и литературы о Пушкине были в числе самых высоких и востребованных.
Читательской аудиторией оставались те же самые люди, которые выросли на Пушкине, для которых он так много значил. Появились новые возможности, чтобы читать и глубже постигать его. С начала 90-х годов эти люди никуда не исчезли – они оставались теми, кто любил Пушкина, кто ценил его творчество, а порой не мыслил без него своей жизни. Конечно, далеко не все были такими глубокими знатоками Пушкина. Но даже само его имя содержало в себе что-то такое настоящее и светлое, что объединяло людей и просветляло их души.
Даже в 1999 году, хотя это была уже другая эпоха (Советский Союз распался, и многое изменилось), психология людей, особенно тех, кто сформировался в предыдущие десятилетия, еще не успела кардинально измениться. Для них Пушкин продолжал оставаться важной частью их культурного багажа. Именно поэтому юбилей Пушкина прошел на такой светлой ноте – потому что для многих людей он все еще значил то же, что и в 70-е или 80-е годы.
С болью чувствую, что Пушкин уже не значит для новых поколений столько, сколько он значил для нас. Хотя, конечно, всегда и во всем есть исключения.
Пока я работала в музее, по крайней мере с начала 2000-х с каждым годом все острее ощущалось, что интерес к Пушкину угасает. Люди, приходящие в музей, уже не воспринимают его творчество так живо, как раньше. В их глазах нет того прежнего восхищения, интереса. Теперь их больше занимают совсем другие вещи.
В последние годы моей работы в музее я уже редко проводила экскурсии, занимаясь в основном методической работой. Я проводила занятия для сотрудников, и однажды они попросили меня: «Тамара Николаевна, проведите для нас специальные занятия по доходам Пушкина, по материальной стороне его жизни. Сейчас посетители чаще всего спрашивают именно об этом — не о творчестве, не о встречах, не о его образе жизни, а о том, сколько он получал с Болдина, какие у него были доходы, сколько он зарабатывал на издании своих произведений».
Кроме того, людей теперь очень интересует личная жизнь Пушкина: его дети, жена, любимые женщины. Эти вопросы стали главными, что, конечно, сильно отличается от того, что волновало посетителей раньше. Хотя, конечно, я понимаю, что психология людей меняется. Сейчас, например, виртуальная реальность уже в большой степени замещает реальность как таковую. Многие как будто разучились видеть и воспринимать окружающий мир во всех его красках. У меня такое ощущение, что люди вообще становятся эмоционально беднее. Боятся глубоких чувств, как, впрочем, и глубоких мыслей. Поэтому, наверное, и Пушкин от них отдаляется.
80-е годы были все-таки временем светлым в смысле мироощущения людей, веры в какое-то светлое будущее. О первых годах Перестройки сейчас принято отзываться почти исключительно негативно. На самом деле все не так однозначно. Это было время, когда реальное содержание обрели для людей понятия свободы, человеческого достоинства. Когда заговорили о том, что во главу угла во всем должны быть поставлены начала гуманности и духовности. Это было время, когда начали издаваться писатели, историки и философы прошлого и настоящего, не издававшиеся ранее. Что касается пушкиноведения, появилось больше свободы в смысле доступности отдельных источников, в самих подходах к исследованию пушкинских текстов и т.д. Тиражи пушкинских произведений и литературы о Пушкине были в числе самых высоких и востребованных.
Читательской аудиторией оставались те же самые люди, которые выросли на Пушкине, для которых он так много значил. Появились новые возможности, чтобы читать и глубже постигать его. С начала 90-х годов эти люди никуда не исчезли – они оставались теми, кто любил Пушкина, кто ценил его творчество, а порой не мыслил без него своей жизни. Конечно, далеко не все были такими глубокими знатоками Пушкина. Но даже само его имя содержало в себе что-то такое настоящее и светлое, что объединяло людей и просветляло их души.
Даже в 1999 году, хотя это была уже другая эпоха (Советский Союз распался, и многое изменилось), психология людей, особенно тех, кто сформировался в предыдущие десятилетия, еще не успела кардинально измениться. Для них Пушкин продолжал оставаться важной частью их культурного багажа. Именно поэтому юбилей Пушкина прошел на такой светлой ноте – потому что для многих людей он все еще значил то же, что и в 70-е или 80-е годы.