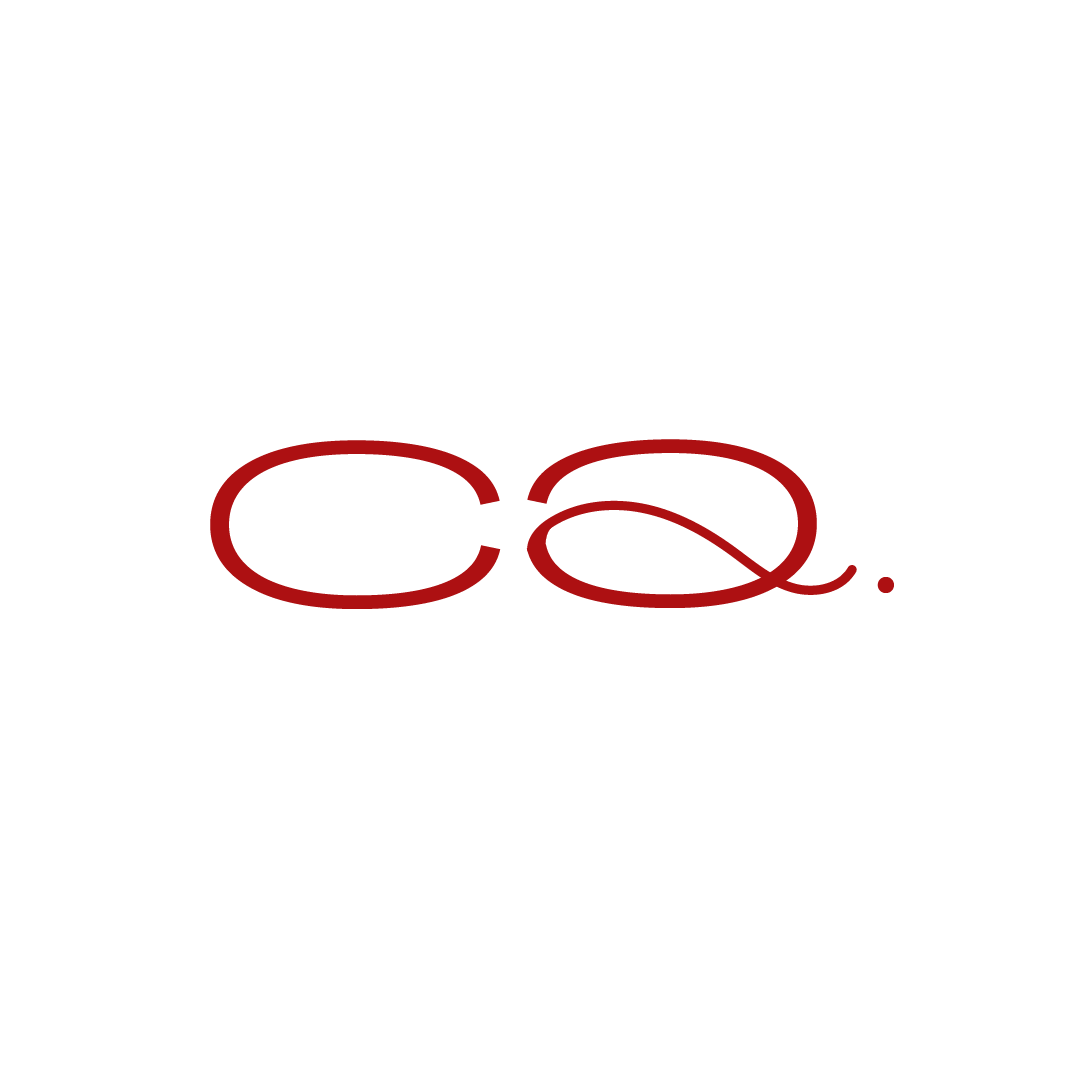наталья михайлова
Интервью. звучащие 90-е.
Дата
интервьюеры
20 ФЕВРАЛЯ 2025
Карташова Александра
Кудряшов Михаил
Кудряшов Михаил
послушать аудиозапись:


Михаил:
Добрый день! Сегодня у нас в гостях Наталья Ивановна Михайлова, главный научный сотрудник музея им. Пушкина, известный пушкинист и доктор филологических наук, а также автор множества научных работ. В разговоре речь пойдёт о развитии пушкинистике в 90-ые годы, а также о создании «Онегинской энциклопедии».
Наталья Ивановна, как, в целом, развивалось пушкиноведение в 90-ые годы?
Добрый день! Сегодня у нас в гостях Наталья Ивановна Михайлова, главный научный сотрудник музея им. Пушкина, известный пушкинист и доктор филологических наук, а также автор множества научных работ. В разговоре речь пойдёт о развитии пушкинистике в 90-ые годы, а также о создании «Онегинской энциклопедии».
Наталья Ивановна, как, в целом, развивалось пушкиноведение в 90-ые годы?
Наталья Ивановна Михайлова:
Пушкиноведение — это часть истории литературы и направление изучения жизни и творчества Пушкина, оно существует очень давно, оно развивается и будет развиваться. И, конечно же, развивалось в 90-е годы, безусловно. В эти годы продолжались научные конференции и Пушкинского дома, и Болдинского музея-заповедника, и Михайловского музея-заповедника.
По материалам этих конференций издавались статьи. Продолжали выпускать такие академические издания, как «Пушкин. Исследования и материалы», «Временник пушкинской комиссии», другие сборники. То есть, пушкиновение продолжало, безусловно, свое развитие, и в эти годы начинались некоторые масштабные работы.
Я могу сказать, что для меня 90-е годы — это начало работы над масштабным проектом «Онегинская энциклопедия». Дело все в том, что в 1994 году вышла моя книга о романе «Евгений Онегин» «Собранье пестрых глав», где к этому изданию были приложены два составленных мною словаря. Это словарь личных и мифологических имен, географических названий и словарь некоторых реалий, которые требовали пояснения.
Потому что сегодня какие-то вещи, безусловно, нуждаются в пояснении. Ну, скажем, «надев широкий боливар», что такое боливар. Так что именно это издание 1994 года послужило своеобразным прообразом начала работы над «Онегинской энциклопедией».
Причем, я должна вам сказать, что к этой работе были привлечены исследователи разных городов России и не только России. Статьи в «Онегинскую энциклопедию» писали и очень известные пушкинисты, и студенты (я в это время по совместительству была профессором педагогического университета имени Ленина).
Причем составителями вместе со мной согласились стать профессора Кошелев и Строганов. Их студенты принимали в этом участие. Это тоже было очень важно, потому что студенты принимали участие в большой научной работе. Причем статьи присылали из Петербурга, из Нижнего Новгорода, из Новосибирска, из многих-многих других городов.
Конечно, это была очень большая и сложная работа, но, во всяком случае, эта работа была завершена. И в 1999 году, в год двухсотлетия Пушкина, был издан издательством «Русский путь» первый том «Онегинской энциклопедии». Второй том был издан в 2004 году. Причем значимость этой работы ещё определялась тем, что к написанию статьи были привлечены не только филологи, историки, искусствоведы, но были привлечены и музейные работники, архивисты, юристы, врачи. Это было очень важно, потому что это был другой взгляд. Скажем, директор музея коневодства писал статью о лошадках. Мы с вами помним, что, когда к Онегину приезжают гости, он уезжает из дома на донском жеребце:
Так вот оказалось (филологи, естественно, это не обращали внимания), что донская лошадь — это лошадь, предназначенная для свободной езды в поле, лошадь с очень норовистым характером, и ездить на донском жеребце мог только смелый опытный наездник, и именно такими качествами наделяет Пушкин своего героя Онегина. Причем Пушкин сам был опытным наездником. Однажды он писал: «упал с лошадью», а не «с лошади», прошу заметить разницу.
Причем, если в первой главе, рассказывая о воспитании и образовании Онегина, Пушкин пишет об очень многом: об умении Онегина легко мазурку танцевать, говорить непринужденно по-французски, кланяться непринужденно, то уже в деревенской главе мы понимаем, что Онегин обучался и верховой езде. Было сделано много разного рода наблюдений, интересных открытий.
Пушкиноведение — это часть истории литературы и направление изучения жизни и творчества Пушкина, оно существует очень давно, оно развивается и будет развиваться. И, конечно же, развивалось в 90-е годы, безусловно. В эти годы продолжались научные конференции и Пушкинского дома, и Болдинского музея-заповедника, и Михайловского музея-заповедника.
По материалам этих конференций издавались статьи. Продолжали выпускать такие академические издания, как «Пушкин. Исследования и материалы», «Временник пушкинской комиссии», другие сборники. То есть, пушкиновение продолжало, безусловно, свое развитие, и в эти годы начинались некоторые масштабные работы.
Я могу сказать, что для меня 90-е годы — это начало работы над масштабным проектом «Онегинская энциклопедия». Дело все в том, что в 1994 году вышла моя книга о романе «Евгений Онегин» «Собранье пестрых глав», где к этому изданию были приложены два составленных мною словаря. Это словарь личных и мифологических имен, географических названий и словарь некоторых реалий, которые требовали пояснения.
Потому что сегодня какие-то вещи, безусловно, нуждаются в пояснении. Ну, скажем, «надев широкий боливар», что такое боливар. Так что именно это издание 1994 года послужило своеобразным прообразом начала работы над «Онегинской энциклопедией».
Причем, я должна вам сказать, что к этой работе были привлечены исследователи разных городов России и не только России. Статьи в «Онегинскую энциклопедию» писали и очень известные пушкинисты, и студенты (я в это время по совместительству была профессором педагогического университета имени Ленина).
Причем составителями вместе со мной согласились стать профессора Кошелев и Строганов. Их студенты принимали в этом участие. Это тоже было очень важно, потому что студенты принимали участие в большой научной работе. Причем статьи присылали из Петербурга, из Нижнего Новгорода, из Новосибирска, из многих-многих других городов.
Конечно, это была очень большая и сложная работа, но, во всяком случае, эта работа была завершена. И в 1999 году, в год двухсотлетия Пушкина, был издан издательством «Русский путь» первый том «Онегинской энциклопедии». Второй том был издан в 2004 году. Причем значимость этой работы ещё определялась тем, что к написанию статьи были привлечены не только филологи, историки, искусствоведы, но были привлечены и музейные работники, архивисты, юристы, врачи. Это было очень важно, потому что это был другой взгляд. Скажем, директор музея коневодства писал статью о лошадках. Мы с вами помним, что, когда к Онегину приезжают гости, он уезжает из дома на донском жеребце:
Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышат их домашни дроги
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
Так вот оказалось (филологи, естественно, это не обращали внимания), что донская лошадь — это лошадь, предназначенная для свободной езды в поле, лошадь с очень норовистым характером, и ездить на донском жеребце мог только смелый опытный наездник, и именно такими качествами наделяет Пушкин своего героя Онегина. Причем Пушкин сам был опытным наездником. Однажды он писал: «упал с лошадью», а не «с лошади», прошу заметить разницу.
Причем, если в первой главе, рассказывая о воспитании и образовании Онегина, Пушкин пишет об очень многом: об умении Онегина легко мазурку танцевать, говорить непринужденно по-французски, кланяться непринужденно, то уже в деревенской главе мы понимаем, что Онегин обучался и верховой езде. Было сделано много разного рода наблюдений, интересных открытий.
Михаил Кудряшов:
Еще одним большим проектом в 90-е была экспозиция «Пушкин и его эпоха». Можете, пожалуйста, о ней рассказать?
Еще одним большим проектом в 90-е была экспозиция «Пушкин и его эпоха». Можете, пожалуйста, о ней рассказать?
Наталья Ивановна Михайлова:
Совершенно верно. Я имею честь быть автором научной концепции этой экспозиции. Я не могу не рассказать об этом, потому что, в какой-то степени, это было связано с состоянием музея. Дело все в том, что когда в 91-м году начался путч, то я оказалась исполняющей обязанности директора музея. В это время директор был в командировке, заместитель директора по хозяйственной части — генерал в отставке — был в отпуске, вместо пожарников почему-то работали пожарницы. И вот начался путч.
Здание в это время было уже накануне капитального ремонта и реставрации. И в музее говорили о том, что если по Хрущевскому переулку проедет танк, то вход в музей может рухнуть. Ну и представьте себе, что творилось в это время в отделах музея, где все обсуждали, говорили.
Я была напугана страшно, потому что я понимала, что если что-то случится, я должна буду что-то делать. Я ходила по отделам и говорила сотрудникам: я прошу вас никуда не ходить, не ходить к Белому Дому, потому что главная обязанность музейного работника во времена войны и революции — сохранять национальное достояние.
Просила отключать электроприборы. Причем я была настолько напугана, что я позвонила маме домой и сказала: мама, если ,не дай бог, музей сгорит без меня, я этого не переживу, я буду оставаться ночевать. Ну здание-то действительно деревянное, оштукатуренное, я оставалась ночевать. И это были очень тревожные дни и, слава богу, мы их пережили, и, в общем, уже началась работа большая, масштабная по реставрации и реконструкции музея (это было еще и большое строительство) и работа над реэкспозицией музея. Это было и трудно, и в то же время увлекательно. Были предложены три концепции музея.
Одна из них оставит старую экспозицию, которая была посвящена жизни и творчеству Пушкина. Это предложила старейшая сотрудница, замечательный экспозиционер Нина Моисеевна Володич. Вторую концепцию предложил первый директор музея Александр Зиновьевич Крейн. Он считал, что мы должны быть новаторами и должны просто сделать систематический показ материалов музея, а именно: в одном зале все портреты Пушкина, в другом зале все портреты его современников, в третьем зале виды городов и мест, связанных с Пушкиным, книги, рукописи, а замечательный экскурсовод все это соединит в своем рассказе. И, наконец, третья концепция была предложена мной. Тема была изменена: не «жизнь и творчество Пушкина», а «Пушкин и его эпоха».
Разумеется, жизнь и творчество включались в экспозицию «Пушкин и его эпоха». Ну и когда обсуждалось это все, то победила моя концепция. И мы стали над ней работать. Причем, концепция была обусловлена тем, что к этому времени уже определилось самое перспективное направление в пушкиноведении, а именно изучение жизни и творчества Пушкина в широком контексте истории, литературы, культуры и быта его эпохи.
Характер нашего собрания (а музей когда-то начинался с нуля, он был открыт в 1961 году), особенность нашего собрания, наших фондов в наибольшей степени отвечали именно теме «Пушкин и его эпоха».
У нас было много предметов пушкинской эпохи. И не только прижизненных изданий Пушкина, но издания поэтов, прозаиков и драматургов пушкинского времени, журналы, альманахи. У нас собралась интересная коллекция мебели, декоративно-прикладного искусства, были некоторые скульптуры. В общем, это тоже было очень и очень важно.
Мы могли это продемонстрировать. Ну и кроме того, в это время газеты пестрели разного рода публикациями, где писали возмущенные журналисты, что музеи не показывают богатств, они в фондах хранят то, что народ не видит. Поэтому одна из задач этой экспозиции заключалась в том, чтобы раскрыть наши фонды. Причем пришлось и расширить экспозиционную площадь, и изменить маршрут.
Дело все в том, что мы задействовали помещение на антресолях. Именно там, в трех небольших залах, помещалась экспозиция, рассказывающая о детстве Пушкина. Есть такой закон: если тема очень значимая, она должна иметь отдельное экспозиционное пространство. А тема детства Пушкина была очень значима.
Надо было изменить маршрут. И мы придумали маршрут, мы начали показ нашей экспозиции не справа, а слева, где первый зал назывался «Пролог», второй зал назывался «Эпоха Пушкина». И тогда в создании этого зала я была не только автором концепции, но и, так сказать, руководителем экспозиционеров, всех, кто работал над этим.
Некоторые залы я делала сама. Над этим залом я работала вместе с историком Ивченко Лидией Леонидовной, которая тогда работала в музее. И в этой работе принимал участие, к сожалению, ныне покойный пушкинист Виктор Семенович Листов. Мы с ним составили вдвоем хронику на каждый год жизни Пушкина. И вот эта хроника, она экспонировалась в зале «Эпоха Пушкина».
Это было очень интересно, и там были показаны основные исторические события. И в торце этого зала были помещены портреты, которые мы называли «лицом эпохи». Причём экспозиция была открыта в 1997 году, и уже тогда на этой стене появился портрет святителя Филарета, который был первым проповедником пушкинского времени, а это особая тема «Пушкин и Филарет».
Соответственно, потом люди попадали на антресоли, знакомились с детством Пушкина. Раньше в антресолях помещался оркестр, там же балы устраивались, и оттуда открывался очень красивый вид на бальный зал. Причем этот зал украшали манекеном в костюмах пушкинского времени, но для того, чтобы туда попасть, надо было спуститься по лестнице.
Этой лестницы раньше у нас не было, но, когда пришли архитекторы, я стала говорить, но ведь как-то попадали музыканты на коры. Лестница обязательно была, и вы обязательно ее найдете. И спасибо им, они обнаружили следы этой лестницы, так что с маршрутом все оказалось, так сказать, решено. Ну и, соответственно, здесь было много разного рода новаций. Ну, например, мы включили в экспозицию гипсовые копии из тех античных слепков, которые видел Пушкин в Академии художеств Петербурга.
Это были античные музы, воспетые Пушкиным. Ну и это тоже очень важно, потому что ведь литературный музей — это, как правило, мелкий материал, а вот эти большие скульптуры объединяли экспозицию залов.
И так у нас появилась муза истории Клио, муза танца Терпсихора, появился Апполон Кифаред. Конечно, это была сложная работа, надо было определить размер этих муз, надо было осуществить в Петербурге эту работу, надо было транспортировать их. И я должна вам сказать, что, конечно, было очень важно, что мы работали над этой экспозицией вместе с выдающимся художником-дизайнером, музейным дизайнером Евгением Абрамовичем Розенблюмом.
Хотя, конечно, было много споров, были разные предложения, на которые мы не могли согласиться, но это была совместная творческая работа. Евгению Абрамовичу очень понравилась мысль о магическом кристалле, высказанная Пушкиным в романе «Евгений Онегин», и центральная гостиная целиком была посвящена роману «Евгений Онегин». Это тоже один из тех залов, которые я делала. Так вот, там были расставлены вертикальные витрины стеклянные, которые образовывали своего рода магический кристалл. Это было тоже очень интересно, и целиком зал посвятили роману «Евгений Онегин».
В 1997 году мы открыли эту экспозицию. Это было очень важным событием в жизни музея. Экспозиция существует до сих пор.
Совершенно верно. Я имею честь быть автором научной концепции этой экспозиции. Я не могу не рассказать об этом, потому что, в какой-то степени, это было связано с состоянием музея. Дело все в том, что когда в 91-м году начался путч, то я оказалась исполняющей обязанности директора музея. В это время директор был в командировке, заместитель директора по хозяйственной части — генерал в отставке — был в отпуске, вместо пожарников почему-то работали пожарницы. И вот начался путч.
Здание в это время было уже накануне капитального ремонта и реставрации. И в музее говорили о том, что если по Хрущевскому переулку проедет танк, то вход в музей может рухнуть. Ну и представьте себе, что творилось в это время в отделах музея, где все обсуждали, говорили.
Я была напугана страшно, потому что я понимала, что если что-то случится, я должна буду что-то делать. Я ходила по отделам и говорила сотрудникам: я прошу вас никуда не ходить, не ходить к Белому Дому, потому что главная обязанность музейного работника во времена войны и революции — сохранять национальное достояние.
Просила отключать электроприборы. Причем я была настолько напугана, что я позвонила маме домой и сказала: мама, если ,не дай бог, музей сгорит без меня, я этого не переживу, я буду оставаться ночевать. Ну здание-то действительно деревянное, оштукатуренное, я оставалась ночевать. И это были очень тревожные дни и, слава богу, мы их пережили, и, в общем, уже началась работа большая, масштабная по реставрации и реконструкции музея (это было еще и большое строительство) и работа над реэкспозицией музея. Это было и трудно, и в то же время увлекательно. Были предложены три концепции музея.
Одна из них оставит старую экспозицию, которая была посвящена жизни и творчеству Пушкина. Это предложила старейшая сотрудница, замечательный экспозиционер Нина Моисеевна Володич. Вторую концепцию предложил первый директор музея Александр Зиновьевич Крейн. Он считал, что мы должны быть новаторами и должны просто сделать систематический показ материалов музея, а именно: в одном зале все портреты Пушкина, в другом зале все портреты его современников, в третьем зале виды городов и мест, связанных с Пушкиным, книги, рукописи, а замечательный экскурсовод все это соединит в своем рассказе. И, наконец, третья концепция была предложена мной. Тема была изменена: не «жизнь и творчество Пушкина», а «Пушкин и его эпоха».
Разумеется, жизнь и творчество включались в экспозицию «Пушкин и его эпоха». Ну и когда обсуждалось это все, то победила моя концепция. И мы стали над ней работать. Причем, концепция была обусловлена тем, что к этому времени уже определилось самое перспективное направление в пушкиноведении, а именно изучение жизни и творчества Пушкина в широком контексте истории, литературы, культуры и быта его эпохи.
Характер нашего собрания (а музей когда-то начинался с нуля, он был открыт в 1961 году), особенность нашего собрания, наших фондов в наибольшей степени отвечали именно теме «Пушкин и его эпоха».
У нас было много предметов пушкинской эпохи. И не только прижизненных изданий Пушкина, но издания поэтов, прозаиков и драматургов пушкинского времени, журналы, альманахи. У нас собралась интересная коллекция мебели, декоративно-прикладного искусства, были некоторые скульптуры. В общем, это тоже было очень и очень важно.
Мы могли это продемонстрировать. Ну и кроме того, в это время газеты пестрели разного рода публикациями, где писали возмущенные журналисты, что музеи не показывают богатств, они в фондах хранят то, что народ не видит. Поэтому одна из задач этой экспозиции заключалась в том, чтобы раскрыть наши фонды. Причем пришлось и расширить экспозиционную площадь, и изменить маршрут.
Дело все в том, что мы задействовали помещение на антресолях. Именно там, в трех небольших залах, помещалась экспозиция, рассказывающая о детстве Пушкина. Есть такой закон: если тема очень значимая, она должна иметь отдельное экспозиционное пространство. А тема детства Пушкина была очень значима.
Надо было изменить маршрут. И мы придумали маршрут, мы начали показ нашей экспозиции не справа, а слева, где первый зал назывался «Пролог», второй зал назывался «Эпоха Пушкина». И тогда в создании этого зала я была не только автором концепции, но и, так сказать, руководителем экспозиционеров, всех, кто работал над этим.
Некоторые залы я делала сама. Над этим залом я работала вместе с историком Ивченко Лидией Леонидовной, которая тогда работала в музее. И в этой работе принимал участие, к сожалению, ныне покойный пушкинист Виктор Семенович Листов. Мы с ним составили вдвоем хронику на каждый год жизни Пушкина. И вот эта хроника, она экспонировалась в зале «Эпоха Пушкина».
Это было очень интересно, и там были показаны основные исторические события. И в торце этого зала были помещены портреты, которые мы называли «лицом эпохи». Причём экспозиция была открыта в 1997 году, и уже тогда на этой стене появился портрет святителя Филарета, который был первым проповедником пушкинского времени, а это особая тема «Пушкин и Филарет».
Соответственно, потом люди попадали на антресоли, знакомились с детством Пушкина. Раньше в антресолях помещался оркестр, там же балы устраивались, и оттуда открывался очень красивый вид на бальный зал. Причем этот зал украшали манекеном в костюмах пушкинского времени, но для того, чтобы туда попасть, надо было спуститься по лестнице.
Этой лестницы раньше у нас не было, но, когда пришли архитекторы, я стала говорить, но ведь как-то попадали музыканты на коры. Лестница обязательно была, и вы обязательно ее найдете. И спасибо им, они обнаружили следы этой лестницы, так что с маршрутом все оказалось, так сказать, решено. Ну и, соответственно, здесь было много разного рода новаций. Ну, например, мы включили в экспозицию гипсовые копии из тех античных слепков, которые видел Пушкин в Академии художеств Петербурга.
Это были античные музы, воспетые Пушкиным. Ну и это тоже очень важно, потому что ведь литературный музей — это, как правило, мелкий материал, а вот эти большие скульптуры объединяли экспозицию залов.
И так у нас появилась муза истории Клио, муза танца Терпсихора, появился Апполон Кифаред. Конечно, это была сложная работа, надо было определить размер этих муз, надо было осуществить в Петербурге эту работу, надо было транспортировать их. И я должна вам сказать, что, конечно, было очень важно, что мы работали над этой экспозицией вместе с выдающимся художником-дизайнером, музейным дизайнером Евгением Абрамовичем Розенблюмом.
Хотя, конечно, было много споров, были разные предложения, на которые мы не могли согласиться, но это была совместная творческая работа. Евгению Абрамовичу очень понравилась мысль о магическом кристалле, высказанная Пушкиным в романе «Евгений Онегин», и центральная гостиная целиком была посвящена роману «Евгений Онегин». Это тоже один из тех залов, которые я делала. Так вот, там были расставлены вертикальные витрины стеклянные, которые образовывали своего рода магический кристалл. Это было тоже очень интересно, и целиком зал посвятили роману «Евгений Онегин».
В 1997 году мы открыли эту экспозицию. Это было очень важным событием в жизни музея. Экспозиция существует до сих пор.
Александра:
А как вы думаете, в целом, как в 90-е в других городах развивалась пушкинистика? Открывались ли еще какие-то интересные места, музеи?
А как вы думаете, в целом, как в 90-е в других городах развивалась пушкинистика? Открывались ли еще какие-то интересные места, музеи?
Наталья Ивановна Михайлова:
Вы знаете, мне сейчас трудно вспомнить, что именно в это время открывалось, но вообще существует несколько музеев Пушкина, и все музеи так или иначе развивались: и Москва, и Петербург, и Кишинев. Уже тогда начиналась работа над музеем Пушкина в Гурзуфе, то есть, эта работа безусловно, продолжалась и будет продолжаться.
И какие бы ни были исторические обстоятельства, мне кажется, надо следовать тому, о чем говорил Лев Толстой в свое время. Надо делать, что должно, и пусть будет, что будет.
Вы знаете, мне сейчас трудно вспомнить, что именно в это время открывалось, но вообще существует несколько музеев Пушкина, и все музеи так или иначе развивались: и Москва, и Петербург, и Кишинев. Уже тогда начиналась работа над музеем Пушкина в Гурзуфе, то есть, эта работа безусловно, продолжалась и будет продолжаться.
И какие бы ни были исторические обстоятельства, мне кажется, надо следовать тому, о чем говорил Лев Толстой в свое время. Надо делать, что должно, и пусть будет, что будет.
Михаил:
Скажите, пожалуйста, как раз к этой теме исторических обстоятельств, вот эта смена в 90-е идеологического пути страны, какого-то идеологического курса, это повлияло каким-либо образом на изучение творчества Пушкина?
Скажите, пожалуйста, как раз к этой теме исторических обстоятельств, вот эта смена в 90-е идеологического пути страны, какого-то идеологического курса, это повлияло каким-либо образом на изучение творчества Пушкина?
Наталья Ивановна Михайлова:
Конечно, нет. Другое дело (и надо на это смотреть открытыми глазами), если в советское время Пушкина представляли декабристом, чуть ли не революционером и атеистом, то уже потом маятник качнулся в другую сторону, и о Пушкине стали говорить как о монархисте и о глубоко воцерковленном человеке.
Но, видите ли, я должна вам сказать, что во все времена и самые, что ни на есть советские времена мне, например, никто не мешал заниматься темой «Пушкин и церковное красноречие его времени». Эта тема чрезвычайно интересная, и там было много интересных находок, в частности, связанных с речами митрополита Филарета.
И мои труды, мои научные работы все равно печатали, несмотря на то что там были торжественные речи в день тезоименитства его императорского величества. Это все печаталось. Однажды моя коллега читала только одни сноски к моей статье и очень смеялась.
Хотя еще до 90-х были разные курьезные случаи, когда однажды я встретила, проходя по экспозиции, сотрудницу, которая говорила, что пришли из райкома партии, хотят узнать, как у нас поставлена атеистическая пропаганда. Я говорю: ну хорошо, иди, скажи то-то и это, покажи дело о «Гавриилиаде», покажи первую публикацию «Сказки о попе и работнике его Балде», которая была напечатана под названием «Сказка о купце Кузьме Осталопе и Работнике его Балде», скажи, что Пушкин был под духовным надзором в Михайловском, а потом скажи, что когда мы заканчиваем экскурсию, мы всегда приводим слова Николая Первого, который сказал: «Карамзин жил и умер как ангел, а Пушкина мы едва заставили умереть по-христиански». Она выполнила все это. Тем не менее, он потребовал секретаря парторганизации и заместителя по научной работе.
Я была заместителем по научной работе, мы встретились с ним, и он стал говорить, что у нас недостаточная атеистическая пропаганда. Я пыталась ему объяснить, что Пушкин был человеком своего времени, что Пушкин верил в Бога, что в конце жизни Пушкин обращается к библейским текстам, к евангельским текстам, и это очень интересно. На что мне было замечено, что в музее Толстого атеистическая пропаганда поставлена лучше.
Но я тогда не выдержала и сказала, что в музее Горького, наверное, совсем хорошо. Так что время, конечно, накладывает свой отпечаток, но тем не менее, продолжает развиваться академическая наука о Пушкине, продолжают издаваться книги Пушкина и книги о Пушкине, это очень важно.
Конечно, нет. Другое дело (и надо на это смотреть открытыми глазами), если в советское время Пушкина представляли декабристом, чуть ли не революционером и атеистом, то уже потом маятник качнулся в другую сторону, и о Пушкине стали говорить как о монархисте и о глубоко воцерковленном человеке.
Но, видите ли, я должна вам сказать, что во все времена и самые, что ни на есть советские времена мне, например, никто не мешал заниматься темой «Пушкин и церковное красноречие его времени». Эта тема чрезвычайно интересная, и там было много интересных находок, в частности, связанных с речами митрополита Филарета.
И мои труды, мои научные работы все равно печатали, несмотря на то что там были торжественные речи в день тезоименитства его императорского величества. Это все печаталось. Однажды моя коллега читала только одни сноски к моей статье и очень смеялась.
Хотя еще до 90-х были разные курьезные случаи, когда однажды я встретила, проходя по экспозиции, сотрудницу, которая говорила, что пришли из райкома партии, хотят узнать, как у нас поставлена атеистическая пропаганда. Я говорю: ну хорошо, иди, скажи то-то и это, покажи дело о «Гавриилиаде», покажи первую публикацию «Сказки о попе и работнике его Балде», которая была напечатана под названием «Сказка о купце Кузьме Осталопе и Работнике его Балде», скажи, что Пушкин был под духовным надзором в Михайловском, а потом скажи, что когда мы заканчиваем экскурсию, мы всегда приводим слова Николая Первого, который сказал: «Карамзин жил и умер как ангел, а Пушкина мы едва заставили умереть по-христиански». Она выполнила все это. Тем не менее, он потребовал секретаря парторганизации и заместителя по научной работе.
Я была заместителем по научной работе, мы встретились с ним, и он стал говорить, что у нас недостаточная атеистическая пропаганда. Я пыталась ему объяснить, что Пушкин был человеком своего времени, что Пушкин верил в Бога, что в конце жизни Пушкин обращается к библейским текстам, к евангельским текстам, и это очень интересно. На что мне было замечено, что в музее Толстого атеистическая пропаганда поставлена лучше.
Но я тогда не выдержала и сказала, что в музее Горького, наверное, совсем хорошо. Так что время, конечно, накладывает свой отпечаток, но тем не менее, продолжает развиваться академическая наука о Пушкине, продолжают издаваться книги Пушкина и книги о Пушкине, это очень важно.
Дарья:
Вы упомянули награды. Может быть, расскажете про Ваше творчество именно в тот период?
Вы упомянули награды. Может быть, расскажете про Ваше творчество именно в тот период?
Алик якубович:
Награды… Дело в том, что мы жили в закрытой стране, всем хотелось каких-то выходов. Были фотоклубы, которые участвовали в международных выставках. Мой учитель, Юрий Федорович Шпагин, который вел в Нижнем фотоклуб «Волга», в который все мечтали попасть, молодежную студию «Поиск», собирал интересные, на его взгляд, работы, которые летали на выставки, и оттуда нам приходили какие-то медали. Это было интересно до того, как началась Перестройка. После этого я перестал делать подобное, мне это неинтересно. Мне интересно ходить по улицам, снимать целыми днями.
О творчестве. Город Горький. Я работаю в пединституте на факультете дополнительной педагогической профессии преподавателем фотодела. И у нас было кафе «Арка» (там сейчас «Сербский Дворик»), где можно было торчать день и ночь с очень хорошими людьми, и там постоянно что-то происходило. Я познакомился с Аней Беловой совершенно случайно, которая, с моей легкой руки, наверное, попала на конкурс Пьер Карден на Красной площади в Москве; в 90-е он приезжал. Она стала победителем в разряде «Фотомодели» и уехала в Париж, и там у нее контракты с Франко Феретти, Жан-Пьер Зандом. Такие истории происходили прямо в городе, в нашем. Люди с улицы! Белова училась в политехе, блондинка, оказалась очень сильно похожа на Катрин Денев, а для французов это святое.
Награды… Дело в том, что мы жили в закрытой стране, всем хотелось каких-то выходов. Были фотоклубы, которые участвовали в международных выставках. Мой учитель, Юрий Федорович Шпагин, который вел в Нижнем фотоклуб «Волга», в который все мечтали попасть, молодежную студию «Поиск», собирал интересные, на его взгляд, работы, которые летали на выставки, и оттуда нам приходили какие-то медали. Это было интересно до того, как началась Перестройка. После этого я перестал делать подобное, мне это неинтересно. Мне интересно ходить по улицам, снимать целыми днями.
О творчестве. Город Горький. Я работаю в пединституте на факультете дополнительной педагогической профессии преподавателем фотодела. И у нас было кафе «Арка» (там сейчас «Сербский Дворик»), где можно было торчать день и ночь с очень хорошими людьми, и там постоянно что-то происходило. Я познакомился с Аней Беловой совершенно случайно, которая, с моей легкой руки, наверное, попала на конкурс Пьер Карден на Красной площади в Москве; в 90-е он приезжал. Она стала победителем в разряде «Фотомодели» и уехала в Париж, и там у нее контракты с Франко Феретти, Жан-Пьер Зандом. Такие истории происходили прямо в городе, в нашем. Люди с улицы! Белова училась в политехе, блондинка, оказалась очень сильно похожа на Катрин Денев, а для французов это святое.
мария:
Какие события или люди оказали наибольшее влияние на ваше творчество и жизнь в целом в 90-е?
Какие события или люди оказали наибольшее влияние на ваше творчество и жизнь в целом в 90-е?
Алик якубович:
Встреча с Лапиным, встреча со Шпагиным. Начало проекта «Пацаны», это начало двухтысячных. Я тогда был креативным директором большого агентства, в котором был учредителем. Мы зарабатывали приличные деньги. И в какой-то момент у меня кончился воздух. Я прям не мог понять: «Я ж фотограф, что я тут делаю?» Я начал искать тему. Мне как-то привезли из Америки, по-моему, журнал «Photo», где все целуются: Джон Леннон с Йоко Оно, Брежнев с Хонеккером, Энди Уорхол, еще кто-то… Я как-то его насмотрелся, удивительно, вышел в город, смотрю: у нас тоже целуются. Вдруг стало заметно, раньше я не замечал. Я начал за этим подсматривать, начал снимать вот эти поцелуи. Началась такая охота интересная: где бы и с кем бы я не ходил, я все равно что-то смотрел. А мне уже кричали: «Якубович, твои целуются, давай снимай!». В городе целовались, понимаете? Это был сильный показатель того, что началась какая-то демократия, свобода: никто никуда не прятался, городские праздники там, ну хлопнут пива или еще что-то, тоже — давай целоваться до смерти. И когда я снимал вот эти поцелуи, я все равно смотрел по сторонам и начал наблюдать пацанов, среди которых я вырос, в общем-то, отчасти, живя на Северном поселке, иногда получал, иногда нет. Начались вот эти темы, которые учили меня общаться с людьми, учили меня знакомиться. Фотограф — это потрясающая профессия, вот не поверите, я вам сейчас расскажу, вы все бросите, но уже поздно, сейчас много фотографов. То есть ты мог подойти к любому человеку, улыбнуться, заговорить. Ты мог уговорить или не уговорить, но все это была большая школа. Вот все сейчас эти тренинги по преодолению возражений, еще что-то — это все ерунда. Когда ты снимаешь «Пацанов», и тебе надо, и там все понятно: тебе сейчас могут так ответить и справа, и слева, а тебе надо.
Знаковое событие девяностых… Во-первых, «Арбат» начался. Я ездил туда как на работу. Мне казалось, что это Париж. И я шарахался там, ничего там такого сверхъестественного не было. Но казалось. Начались Крестные ходы в Кировской области, к реке Великой (70 км от Кирова). Три года я туда ездил, пока это не стало таким туристическим событием: фотографы начали выпивать тогда, я там тоже грелся по-всякому. Сначала ходили тревожные, еле живые старушки: они 70 км пешком проходили. Помню, одна бабушка умирать начала. Ее в больницу тащили, она кричала: «Нет! На чем угодно: на носилках, на веслах, тащите меня к реке!» (смеётся). Ее притащили, она встала и пошла. А все думали — помрет. Мы опережали всегда Крестный ход, ждали и встречали его в какой-то деревне. Шел ливень. Мы стояли под навесом с камерами, нас было несколько фотографов. И идёт Крестный ход. Клянусь: я ни в Бога не верю, ни в кого не верю, вижу, что Крестный ход не мочит. Идет ливень стеной, а на них ни капельки. Я думал: «Да что ж такое?». Да, я был свидетелем. Чудесно.
Всякое было. В Нижнем Новгороде — Игорь Чудалев, мы с ним как-то ближе познакомились, хотя я не был тогда поэтом, но он начал таскать меня по городу, подсказывать какие-то темы, куда-то мы с ним ходили. «Черный пруд» — первое неформальное объединение, не привязанное к Союзу художников. Начали активно работать Гена Урлин, Коля Сметанин — вот они все тут разжигали воздух. Появилось молодое объединение «Эгоисты». Много чего происходило, и ты мог прийти к любому человеку в мастерскую. Тогда уже интерес появился и к общению, и к съемке подобной. Моя работа в пединституте тоже была хорошим занятием, но однажды я подумал «Не уйти ли мне с работы?», на что мне мой друг из Москвы, Валера Разин, хороший фотограф, сказал: «Алик, представляешь, у меня мастерская на Красной площади». И я думаю: «Не уйти ли мне?» (смеётся). «Так что не дури, тебя тут никто не насилует, работай спокойно, живи». И я остался.
Встречи с девушками были очень красивыми, всегда в этом городе. Самые красивые девушки живут в городе Горький. Это не я сказал, это сказал Эдуард Тополь в книге «В постели с Россией». Он рассказывал такую потрясающую историю про гостиницу «Москва» (сейчас — отель «Sheraton»), где он встретил самую красивую девушку и она, конечно, была из Горького. Тогда жизнь была сплошным событием. Во-первых, «рок чистой воды» тогда замутили. Потом был молодежно-музыкальный клуб при Дворце культуры имени Орджоникидзе, где были бесконечные джазовые концерты. Кто-то там только не приезжал, ребята! Это ни одной Америке не снилось, как мы в какие-то страшные морозы на каком-то там автобусе с Минина ехали, и нам было пофигу. И не важно было: во сколько это закончится, как мы попадем назад. Вот это было какое-то счастье, и его было много! Козлов приехал с «Ностальгией», «Арсенал». Это концерт, после которого мы не смогли разойтись и всей толпой уехали к товарищу на дачу, например. Это была бесконечная свобода, бесконечное общение какое-то.
У меня болели зубы. Я стою на остановке, ко мне подходят ребята какие-то. «Привет», «Привет. Мы тебя знаем». Я говорю: «Я вас тоже». «Что у тебя?». «Зубы болят». «Давай водки, раз, полстакана в рот, держи». Я подержал. «Ну как, лучше?». «Лучше». «Поехали». И мы поехали куда-то. Оказалось, это были Никита Знаменский, Серёга Гусев — теперь небезызвестные люди в этом городе.
Девяностые — это точно событие. Мы взрослели, зарабатывали. Была какая-то сплошная любовь. Даже с милицией можно было влегкую договориться, когда они тебя арестовывали, а это бывало. Это учило договариваться, а сейчас не так, сейчас сложно. Сейчас какие-то законы… Тогда тоже законы, но раз — в баре вечером пересеклись, выпили, и все хорошо. У Аси Феоктистовой в мастерской изобразительного искусства было сборище потрясающих художников. В любое время дня и ночи. В первую очередь — творчество. Мы всегда туда ходили, приезжали какие-то иностранцы. Так и жили. Завидуете?
Встреча с Лапиным, встреча со Шпагиным. Начало проекта «Пацаны», это начало двухтысячных. Я тогда был креативным директором большого агентства, в котором был учредителем. Мы зарабатывали приличные деньги. И в какой-то момент у меня кончился воздух. Я прям не мог понять: «Я ж фотограф, что я тут делаю?» Я начал искать тему. Мне как-то привезли из Америки, по-моему, журнал «Photo», где все целуются: Джон Леннон с Йоко Оно, Брежнев с Хонеккером, Энди Уорхол, еще кто-то… Я как-то его насмотрелся, удивительно, вышел в город, смотрю: у нас тоже целуются. Вдруг стало заметно, раньше я не замечал. Я начал за этим подсматривать, начал снимать вот эти поцелуи. Началась такая охота интересная: где бы и с кем бы я не ходил, я все равно что-то смотрел. А мне уже кричали: «Якубович, твои целуются, давай снимай!». В городе целовались, понимаете? Это был сильный показатель того, что началась какая-то демократия, свобода: никто никуда не прятался, городские праздники там, ну хлопнут пива или еще что-то, тоже — давай целоваться до смерти. И когда я снимал вот эти поцелуи, я все равно смотрел по сторонам и начал наблюдать пацанов, среди которых я вырос, в общем-то, отчасти, живя на Северном поселке, иногда получал, иногда нет. Начались вот эти темы, которые учили меня общаться с людьми, учили меня знакомиться. Фотограф — это потрясающая профессия, вот не поверите, я вам сейчас расскажу, вы все бросите, но уже поздно, сейчас много фотографов. То есть ты мог подойти к любому человеку, улыбнуться, заговорить. Ты мог уговорить или не уговорить, но все это была большая школа. Вот все сейчас эти тренинги по преодолению возражений, еще что-то — это все ерунда. Когда ты снимаешь «Пацанов», и тебе надо, и там все понятно: тебе сейчас могут так ответить и справа, и слева, а тебе надо.
Знаковое событие девяностых… Во-первых, «Арбат» начался. Я ездил туда как на работу. Мне казалось, что это Париж. И я шарахался там, ничего там такого сверхъестественного не было. Но казалось. Начались Крестные ходы в Кировской области, к реке Великой (70 км от Кирова). Три года я туда ездил, пока это не стало таким туристическим событием: фотографы начали выпивать тогда, я там тоже грелся по-всякому. Сначала ходили тревожные, еле живые старушки: они 70 км пешком проходили. Помню, одна бабушка умирать начала. Ее в больницу тащили, она кричала: «Нет! На чем угодно: на носилках, на веслах, тащите меня к реке!» (смеётся). Ее притащили, она встала и пошла. А все думали — помрет. Мы опережали всегда Крестный ход, ждали и встречали его в какой-то деревне. Шел ливень. Мы стояли под навесом с камерами, нас было несколько фотографов. И идёт Крестный ход. Клянусь: я ни в Бога не верю, ни в кого не верю, вижу, что Крестный ход не мочит. Идет ливень стеной, а на них ни капельки. Я думал: «Да что ж такое?». Да, я был свидетелем. Чудесно.
Всякое было. В Нижнем Новгороде — Игорь Чудалев, мы с ним как-то ближе познакомились, хотя я не был тогда поэтом, но он начал таскать меня по городу, подсказывать какие-то темы, куда-то мы с ним ходили. «Черный пруд» — первое неформальное объединение, не привязанное к Союзу художников. Начали активно работать Гена Урлин, Коля Сметанин — вот они все тут разжигали воздух. Появилось молодое объединение «Эгоисты». Много чего происходило, и ты мог прийти к любому человеку в мастерскую. Тогда уже интерес появился и к общению, и к съемке подобной. Моя работа в пединституте тоже была хорошим занятием, но однажды я подумал «Не уйти ли мне с работы?», на что мне мой друг из Москвы, Валера Разин, хороший фотограф, сказал: «Алик, представляешь, у меня мастерская на Красной площади». И я думаю: «Не уйти ли мне?» (смеётся). «Так что не дури, тебя тут никто не насилует, работай спокойно, живи». И я остался.
Встречи с девушками были очень красивыми, всегда в этом городе. Самые красивые девушки живут в городе Горький. Это не я сказал, это сказал Эдуард Тополь в книге «В постели с Россией». Он рассказывал такую потрясающую историю про гостиницу «Москва» (сейчас — отель «Sheraton»), где он встретил самую красивую девушку и она, конечно, была из Горького. Тогда жизнь была сплошным событием. Во-первых, «рок чистой воды» тогда замутили. Потом был молодежно-музыкальный клуб при Дворце культуры имени Орджоникидзе, где были бесконечные джазовые концерты. Кто-то там только не приезжал, ребята! Это ни одной Америке не снилось, как мы в какие-то страшные морозы на каком-то там автобусе с Минина ехали, и нам было пофигу. И не важно было: во сколько это закончится, как мы попадем назад. Вот это было какое-то счастье, и его было много! Козлов приехал с «Ностальгией», «Арсенал». Это концерт, после которого мы не смогли разойтись и всей толпой уехали к товарищу на дачу, например. Это была бесконечная свобода, бесконечное общение какое-то.
У меня болели зубы. Я стою на остановке, ко мне подходят ребята какие-то. «Привет», «Привет. Мы тебя знаем». Я говорю: «Я вас тоже». «Что у тебя?». «Зубы болят». «Давай водки, раз, полстакана в рот, держи». Я подержал. «Ну как, лучше?». «Лучше». «Поехали». И мы поехали куда-то. Оказалось, это были Никита Знаменский, Серёга Гусев — теперь небезызвестные люди в этом городе.
Девяностые — это точно событие. Мы взрослели, зарабатывали. Была какая-то сплошная любовь. Даже с милицией можно было влегкую договориться, когда они тебя арестовывали, а это бывало. Это учило договариваться, а сейчас не так, сейчас сложно. Сейчас какие-то законы… Тогда тоже законы, но раз — в баре вечером пересеклись, выпили, и все хорошо. У Аси Феоктистовой в мастерской изобразительного искусства было сборище потрясающих художников. В любое время дня и ночи. В первую очередь — творчество. Мы всегда туда ходили, приезжали какие-то иностранцы. Так и жили. Завидуете?
мария:
Мы действительно восторгаемся той невероятной энергией, тем ощущением ярких событий и возможностей, которое, как вы описали, царило в воздухе. Спасибо вам огромное за откровенность и за интереснейшее интервью. Было действительно увлекательно!
Мы действительно восторгаемся той невероятной энергией, тем ощущением ярких событий и возможностей, которое, как вы описали, царило в воздухе. Спасибо вам огромное за откровенность и за интереснейшее интервью. Было действительно увлекательно!